Это был недвусмысленный приказ, которого никто, включая дона Джузеппе, не посмел ослушаться.
Мысль о том, что в этих роскошных дорожных сумках из расшитого шелком бархата может содержаться что-то, предназначенное для них, вскружила головы всей семье. Им никогда раньше не приходилось получать подарки, и этот день, день, когда умерла несчастная Луиджия, вошел в историю семейства Виола как день подарков.
Луиджии Виоле было тридцать шесть лет, но казалось, что она старше этого дома, старше самого времени. Она перенесла пятнадцать беременностей (шестеро детей и множество выкидышей), она перенесла холеру и злокачественную лихорадку, но от последнего выкидыша, случившегося уже после отъезда Саулины, так и не смогла оправиться. У нее болела спина, болел живот, ныли суставы — она таяла на глазах, силы покидали ее. На Рождество она даже отказалась от супа из свиной колбасы с красным вином.
Состоялся семейный совет, после чего за спиной у дона Джузеппе, но с его ведома решили пригласить Лючию, знахарку из соседнего селения, прославившуюся своими чудесными исцелениями. Лючия долго осматривала больную, разглядывала белки глаз, ощупывала раздутый живот.
— Доверьтесь милости господней, — сказала она наконец.
— Вы хотите сказать, что у меня нет никакой надежды выздороветь?
— Я мало что могу для вас сделать, — призналась Лючия, опуская взгляд. — Вот если бы пришел настоящий доктор… Но, пожалуй, здесь и он не поможет. Только господь бог.
Луиджия давно знала, что болезнь ухватила ее крепко и больше не отпустит. Она спрашивала себя лишь об одном: сколько ей еще жить и страдать? Дон Джузеппе уверял, что страдания посланы ей во искупление грехов и что она должна воспринимать их как приобщение к богу, но она видела в своей болезни лишь незаслуженное мучение.
— Сколько мне осталось? — спросила она у целительницы. — Месяц? Год? А может, всего несколько дней?
Знахарка не раз видела, как женщины умирают от такой болезни.
— Никто не скажет, сколько тебе осталось. Это знает один Всевышний, — заключила она, поднимая глаза к небу. — Я могу лишь облегчить твои страдания.
— Благодарю вас.
Что ж, это было своего рода утешением. Луиджию не так пугал бесконечный сон, как длинная и мучительная дорога, ведущая к нему.
— Когда ваша супруга будет жаловаться на боль, — сказала знахарка, поворачиваясь к Амброзио и протягивая ему мешочек с тонко смолотым порошком в обмен на несколько грошей, — дайте ей две щепотки этого лекарства, растворенного в воде. Это облегчит боль и поможет ей уснуть.
Через несколько дней Луиджия сказала приходскому священнику, пришедшему ее навестить:
— Мне бы так хотелось повидать мою маленькую Саулину…
И вот теперь ее маленькая Саулина, прекрасная, как мечта, сидела рядом с ее соломенным тюфяком на обрубке полена.
— Вам очень больно? — спросила дочь.
— Как странно, — ответила Луиджия. — Твое присутствие оказывает на меня такое же воздействие, как мое лекарство, только от тебя меня не клонит в сон. Мне так хорошо с тобой! Знаешь, как плохо болеть? Болезнь тебя подстерегает, как злодей в лесу. Даже когда боли нет, не знаешь ни минуты покоя, потому что ожидаешь ее появления. Но не будем об этом говорить.
Саулина погладила ее руки, понимая, что раз уж мать позвала ее к себе перед смертью, то не ради утешения. По крайней мере, не только ради него.
— Я должна рассказать тебе о твоем отце, — торжественно проговорила Луиджия и подняла натруженную руку, словно желая подчеркнуть важность того, что собиралась сказать. — Я была наихудшей из жен. Я ни разу не пожалела и не раскаялась в том, что изменила мужу. Надеюсь, дон Джузеппе отпустит мне этот грех.
— Отпустит, не сомневайтесь, — пообещала Саулина, собравшаяся сделать щедрое пожертвование местной церкви.
— Господь рассудит, — с надеждой произнесла Луиджия.
— Господь милостив к тем, кто много любил и много страдал.
— Ты правду говоришь?
— Так написано в Библии, — сказала Саулина.
Впервые за все прошедшие годы она почувствовала, как что-то оттаивает у нее внутри.
— Ты меня хоть иногда вспоминала? — спросила Луиджия.
— Только вас я и вспоминала. Ведь, кроме вас, никто меня не любил.
На обескровленных губах Луиджии появилась слабая улыбка.
— Я все время думала о тебе. Я следовала за тобой шаг за шагом. Всегда.
Саулина не стала рассказывать ей о своих горестях и утратах. Пусть мать думает, что она счастлива. Пусть хоть от этого ей станет легче.
— Мне бы следовало приехать раньше.
— Ты приехала вовремя.
Луиджии стало легко и хорошо как никогда. Поговорив с дочерью, она ощутила невероятное облегчение.
— Твой отец тоже тебя вспоминал, — продолжала Луиджия.
— Амброзио?
— Нет. Твой настоящий отец. Он вспоминал о тебе.
— Но он даже не знает, что я есть на свете!
— Он знает, что ты есть. Он тебя видел. Он знает, кто ты и как тебя зовут. Имя, которое ты носишь, дал тебе он. Это имя библейского царя, переделанное на женский лад.
— Я думала, он цыган. Пришел и ушел.
— Он был актером. Бродячим актером.
— Не вижу разницы, — сказала Саулина.
— Его звали Каталин, — не слушая ее, продолжала Луиджия. — Каталин Петре. Он мне рассказывал, что Петре — благородная семья из Богемии. Они королевской крови. Твой отец был высокий, красивый, говорил ласково, а глаза у него были черные и добрые, как у тебя, волосы густые и вьющиеся. Он умел петь песни и читал стихи наизусть.
Как зачарованная, слушала Саулина последнюю сказку, рассказанную ей матерью, преждевременно состарившейся от горя, нищеты и болезни.
— Вы говорили, что я на него похожа, — робко напомнила она.
— Ты его портрет. Только волосы светлые, как у меня. А в остальном ты настоящая Петре. Когда мы с ним… познакомились, — она не посмела сказать «полюбили друг друга», — я была молода и красива. Он хотел, чтобы я ушла вместе с ним, но я не могла. У меня были дети, муж. Каталин вернулся, когда тебе было три месяца. Он увидел тебя, поцеловал и заплакал, когда ты улыбнулась. Он дал мне кое-что для тебя.
— Что? — с любопытством спросила Саулина.
Луиджия сделала знак дочери, чтобы та помогла ей снять с шеи кожаный мешочек на белом шнурке.
— Я храню его с тех пор, — сказала мать, протянув мешочек дочери. — Открой.
Из мешочка, истершегося с годами, на колени Саулине выскользнула медаль. Девушка рассмотрела ее в огне очага. Медаль была похожа на монету, только немного крупнее. Саулина прочитала бегущую вокруг увенчанного лаврами мужского профиля надпись: Katalyn Petre — Dux — Bohemiae[21]. На другой стороне медали был высечен рельеф греческого креста с надписью на незнакомом ей языке.
— Вот видишь? — ликовала Луиджия. — Там написано имя твоего отца. А остальные слова что означают?
— «Dux» означает, что он военачальник, — перевела Саулина для своей не знавшей грамоты матери.
— Вот видишь? — повторила Луиджия. — Он как увидел тебя в тот единственный раз, так мне и сказал: «Если когда-нибудь эта девочка спросит о своем отце, отдай ей эту медаль, и она узнает, кто я такой». С тех пор я всегда носила ее на шее. Теперь она твоя.
Саулина зачарованным взглядом смотрела на медаль, которую умирающая мать передала ей как свидетельство ее происхождения.
— Katalyn Petre — Dux — Bohemiae, — тихо повторила она.
— Ты должна была узнать, какого ты рода. В жилах твоих предков текла королевская кровь, — сказала Луиджия и потребовала, чтобы Саулина немедленно надела мешочек на белом шнурке себе на шею вместо ладанки.
Возможно, медаль была не настоящая, как и вся история, выдуманная ее бродягой-отцом, но Саулина убедила себя, что какая-то доля правды во всем этом есть. Недаром она с детства ощущала свою непохожесть на окружающих.
— Спасибо, мама, — сказала она.
Луиджия жестом попросила ее наклониться поближе и поцеловала на прощание.
— Спасибо тебе, девочка моя, — улыбнулась она. — Прошу тебя, возьми меня за руку и сожми ее крепко-крепко. Я скоро тебя покину. Я уже вижу бескрайний белый простор, там нет боли… Снег, теплый снег, я погружаюсь в него, как в перину. Это покой, великий покой, девочка моя…
Так Саулина проводила свою мать до последнего порога и оставила ее там наедине с бесконечным покоем, принадлежавшим ей одной.
3
Луиджия Виола была похоронена на маленьком кладбище позади церкви Богородицы в селении Корте-Реджина. Вся деревня присутствовала на этих похоронах. Дон Джузеппе читал заупокойные молитвы, вздымая кадилом облака ладана. Он говорил о Луиджии как о благочестивой душе, любящей матери и образцовой супруге, которую господь в своем бесконечном милосердии решил взять к себе на небо. Младшие дети Луиджии, впервые ставшие героями столь значительного события, взволнованно улыбались во время церемонии. Старшие думали о том, что будет теперь, когда у них в семье объявилась знатная дама. Саулина, хоть и провела с матерью ее последние минуты, тоже была погружена в мысли о себе, а не о бедной усопшей.
Только Амброзио Виола, никогда не проявлявший нежности к жене и никогда не жалевший для нее тумаков и изнурительного труда, тяжко переживал утрату. Он чувствовал себя осиротевшим и покинутым. Он охотно заплакал бы, если бы знал, как это делается. Но и он тосковал не по ней — она ушла и, обменяв жизнь на смерть, возможно, заключила выгодную сделку, — он жалел самого себя, страдал от одиночества, на которое теперь был обречен, потому что его жена, такая спокойная и преданная, скупая на улыбку, но щедрая на добро и участие, оставила его навсегда.

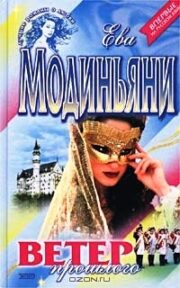
"Ветер прошлого" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ветер прошлого". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ветер прошлого" друзьям в соцсетях.