— Мне говорили, гражданка, — ошеломил он ее внезапным вопросом, — будто все итальянцы воры. Должен ли я этому верить?
— Не верьте, мой генерал, — ответила графиня с несвойственным ей обычно дерзким вызовом. — Не все, а только значительная часть[10].
Ни от кого не укрылся сарказм этого ответа, тем более от самого Наполеона, имевшего итальянские корни и владевшего языком хозяев лучше, нежели французским. Однако он предпочел сделать вид, будто не заметил двусмысленности, и уединился со своим другом Массеной. Графине Барбаре Литта Висконти удалось услышать их разговор.
— Эти миланцы, — заметил Наполеон, — уже не улыбаются мне так сердечно, как в первые дни. Чувствую, что в любой момент могу получить удар в спину.
— С тех пор, как существует война, — усмехнулся Массена, — военные трофеи служат жвачкой для политиков. Армии достаются честь и слава. А военные трофеи заставляют замолчать горлопанов из Директории.
— Мне бы не хотелось, чтобы наемный убийца, подосланный духовенством или аристократами, заставил замолчать меня, да притом навсегда, — сухо возразил Наполеон. — Я больше не чувствую себя в безопасности в этом городе. Чем скорее я его покину, тем будет лучше.
— Есть и те, кто вас любит. Как-никак мы все-таки принесли им свободу и справедливость.
— Это верно, — согласился Наполеон. — Доверчивых дураков всегда хватает.
Барбара Литта Висконти не преминула пересказать подслушанное, и вскоре по безотказно действующим каналам городских слухов и сплетен новость уже живо обсуждалась во всех миланских домах, в соборе, в оперном театре.
— Вы, безусловно, правы, — возобновил разговор городской комендант, — у каждого главнокомандующего свои причуды, дорогой граф Порро.
— Гражданин, — насмешливо поправил его родовой аристократ.
— Хотя бы между нами давайте не будем считать себя обязанными соблюдать правила этой дурацкой игры. Мало нам других забот, теперь мы еще должны ломать себе голову из-за девчонки, которую комедиантка, пользующаяся милостями Бонапарте, взяла под свое покровительство. И в довершение всего я буквально погребен под обвалом анонимных доносов. Вот, извольте взглянуть. — Граф Франческо Нава подошел к своему письменному столу, открыл ящик, битком набитый письмами, и вытащил одно наугад. — Якобинцы объявили войну дворянским гербам, а наши дураки и рады стараться. Вот смотрите: заставили хозяина сапожной лавки у въезда на контраду Сант-Андреа сбить железную корону, служившую ему вывеской.
— Но ведь таково было постановление городского совета, — мягко напомнил граф Порро, — упразднить титулы и уничтожить геральдические знаки. Я сам, — добавил он, нахмурившись, — отказался от своих званий и подписал декрет.
— Это было сделано не по искреннему убеждению, а чтобы доставить удовольствие французам, — возразил граф Нава. — Однако народ принял все это всерьез. Вот полюбуйтесь, прошу вас, — и он протянул другу еще одно письмо.
— «Вчера, проходя по Соборной площади, — вслух прочитал граф Порро, — я обратил внимание на венчавшего одну из мраморных капелл так называемого имперского орла. Движимый патриотическим рвением и стремлением искоренить последние остатки тирании в нашем городе, обращаюсь в данное ведомство с тем, чтобы был удален этот позорный символ нашего рабства».
— Вот чем мне приходится заниматься! — раздраженно воскликнул городской комендант.
— Общественное устройство держится среди прочего и на анонимных письмах, — рассудительно заметил граф Порро.
— Прикажете и это считать завоеванием революции?
— Под австрийским владычеством жилось не лучше. Вспомните, как мы барахтались в болоте провинциальных сплетен. Терпение, друг мой, терпение. Такова история, состоящая в числе прочего из досадных мелочей: анонимных писем и потерявшихся девочек, которых надо разыскать. В любом случае вы всегда можете рассчитывать на мою помощь.
— Ваша поддержка смягчает для меня унизительность задания, — признался граф Нава, почему-то воспринявший последний приказ как личное оскорбление.
И в самом деле, без помощи графа Порро, имевшего надежные рычаги влияния во всех слоях миланского общества, местная полиция мало что могла сделать в городе, разделенном непроницаемыми социальными перегородками.
— Я поеду в театр к мадам Грассини, — сказал граф Порро, — и подробно расспрошу ее лично обо всем, что касается потерявшейся девочки.
12
Вдали забухал тяжелый колокол, потом к его бронзовому звону присоединились колокола поменьше, торопившиеся возвестить начало очередного часа. Все колокольни города, позолоченные лучами утреннего солнца, заливались звоном.
Веселый перезвон и раздражающий кожу зуд разбудили Саулину.
— Блохи! — воскликнула она, почесываясь, но ничуть не встревожившись: эта житейская беда была ей хорошо знакома.
Она села на засаленной кровати. Незнакомая комната, грязная и голая, была совсем непохожей на ее прелестную спаленку в доме Джузеппины Грассини, да и на большую общую спальню в сыроварне ее отца в родном селении тоже.
Звон колоколов становился все громче. В голове Саулины возникали смутные и мрачные образы, которые ей хотелось бы стереть из памяти: ее покровительница в объятиях французского генерала, лихорадочное бегство через незнакомый город, лекарь (как его звали?) с его странными снадобьями и пугающими инструментами, путешествие в сумерках по грязным переулкам и, наконец, эта ужасная таверна.
Саулина протерла глаза, осмотрелась кругом, потом схватилась рукой за пояс, но не нашла того, что искала.
— Моя табакерка! Сердце подпрыгнуло у нее в груди, в глазах потемнело. Комната стремительно закружилась, затягивая ее в страшную бездонную воронку.
Очнувшись от обморока, Саулина заплакала — сначала беззвучно, потом громко, с рыданиями, разрывавшими грудь. Сквозь щели в грубых шторах из плетеного волоса пробивался дневной свет, шум в переулке мало-помалу становился оглушительным: лаялись между собой торговки, уличные продавцы и глашатаи пронзительно выкрикивали какие-то призывы, ржали и блеяли животные, надрывались в плаче дети, молоты стучали по наковальне. Не хватало только скрипа каретных колес, но ничего удивительного в этом не было: даже самый скромный экипаж не смог бы проехать здесь.
Саулина встала и подошла к стулу. В голове шумело. Она взяла в руки свой прекрасный бархатный пояс, распоротый по шву.
Бродячий лекарь украл у нее самое ценное: ее сокровище, ее амулет, подарок генерала Бонапарта. А потом сбежал, и она даже не могла вспомнить, как его зовут, этого мерзавца, этого отъявленного мошенника. Его никак нельзя было сравнить с веселым и благородным бандитом Рибальдо, который хотя бы честно и открыто называл себя вором, в то время как этот притворялся порядочным, а сам украл у нее то, что было ей дороже всего на свете.
Саулина ничего не ела со вчерашнего дня. Кроме того, выпитое ею сонное зелье оставило неприятную тупую тяжесть в голове.
Она стояла посреди убогой и гнусной комнатенки, но, как ни старалась, не могла сообразить, что же ей теперь делать. Продолжая всхлипывать, Саулина вновь подпоясала свое красивое, но уже испачканное и кишащее блохами платье.
Она вышла из таверны, никого не встретив, даже старика-сторожа нигде не было видно. Она понимала, что расспрашивать о мошеннике-лекаре бесполезно и вообще лучше держаться подальше от людей.
Как ни странно, в эту минуту больше всего ей хотелось есть. В противоположном от таверны «Медведь» конце переулка располагалась пекарня, откуда доносился дразнящий запах свежего хлеба. Разносчик с веселым и плутоватым лицом поправлял на плечах огромную плетеную корзину, доверху наполненную горячей выпечкой: тут были и длинные французские батоны, и большие караваи желтого хлеба, и кругленькие миланские булочки.
Саулина глаз не могла оторвать от содержимого корзины. Она уставилась на круглую булочку, и мысленно приказала ей выскользнуть из корзины, и даже просила об этом бога, но он так и не услышал.
Парнишка до того ловко управлялся с тяжелой, благоухающей свежим хлебом корзиной, что мечта Саулины Виолы, так и не осуществившись, растворилась в солнечной дали, как раз в том месте, где пыльный и грязный переулок пересекался с более широкой дорогой.
Сперва проголодавшаяся девочка вознамерилась было последовать за разносчиком, но ее отвлек шумный скандал в доме по соседству. Две женщины, еще молодые, но уже изрядно потрепанные безжалостной дланью нищеты, полуодетые, простоволосые и растрепанные, высунувшись из окна, выкрикивали оскорбления и выбрасывали на улицу предметы одежды, причем стремились попасть непременно в голову молодому человеку в исподнем, тоскливо озиравшемуся по сторонам.
— Потаскухи! — кричал молодой человек, задирая голову вверх.
Вокруг него уже начала собираться небольшая толпа. Подобные сцены здесь случались нередко, но неизменно привлекали зрителей, всегда готовых насладиться бесплатным зрелищем.
— Голодранец! — в один голос ответили женщины.
— Вы самые грязные шлюхи во всем Боттонуто! — вопил он, подбирая с земли панталоны и рубашку.
Одеваться ему пришлось прямо на глазах у благодарной публики.
— Хотел за спасибо обмакнуть свой сухарик в соус? — надрывалась более молодая из женщин. — Надо денежки платить, а без денежек ничего не бывает!
— А свои шесть грошей можешь забрать назад, на них даже хлеба не купишь! На, подавись! — крикнула вторая, но деньги на землю не бросила.
— Я полицию позову! — пригрозил молодой человек, застегивая панталоны. Прикрыв срам, он уже чувствовал себя увереннее, и даже голос у него стал не таким пронзительным.
Мимо проходил седой, но крепкий старик, толкавший перед собой тележку с песком.

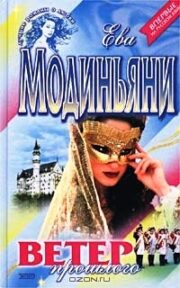
"Ветер прошлого" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ветер прошлого". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ветер прошлого" друзьям в соцсетях.