Жюльетта Бенцони
Кречет. Книга IV
Часть первая. СВОБОДНАЯ АМЕРИКА
НАВСТРЕЧУ ВОСПОМИНАНИЯМ
Как чайка кружит над волнами, прежде чем опуститься на воду, так парусник заложил изящный галс, подходя к рейду в излучине реки, и сложил белоснежные крылья. Раздался металлический скрежет цепи в клюзе. И якорь, выбросив сноп сверкающих брызг, погрузился в зеленые воды Потомака. «Кречет», дернув несколько раз швартов, как собака поводок, застыл на месте. И тут же корабельный люд заскакал по-обезьяньи по вантам и марселям, принялся травить канаты, но зычный голос капитана Малавуана, отдававшего в рупор приказы, перекрывал и крики экипажа, и шум сворачиваемой парусины.
Стоя на полуюте рядом с Тимом Токером, весело насвистывавшим застольную песенку. Жиль де Турнемин наблюдал, как обвисают, а потом медленно сползают вниз большие белые паруса, сквозь которые просвечивают лучи заходящего солнца.
Малавуан опустил рупор и повернулся к нему:
— Судно встало на рейд. Какие будут распоряжения?
— Спускайте на воду шлюпку, капитан. Господин Токер сходит на берег…
Тим соскользнул с перил, на которых сидел, и вздохнул так, что запросто мог бы снова раздуть паруса.
— Ты все-таки настаиваешь, чтобы я сошел первым?
— Так будет лучше. Тебя же обычно посылали к генералу Вашингтону эмиссаром. Ты для него свой.
— Но и ты был его правой рукой, когда шла война…
— Да, только с тех пор прошло шесть лет. Все же лучше, если о моем прибытии они узнают от тебя. А то время позднее, подумают еще, что я напрашиваюсь на ужин.
— Ну, без приглашения на ужин точно не обойдется… И я совсем не прочь откушать.
— Вот и хорошо. Да и потом… такой чудесный вечер. Мне хочется остаться на корабле, полюбоваться природой, — добавил он, обводя рукой великолепную панораму, открывающуюся с палубы.
Река, разливавшаяся в устье на три мили, в этом месте была тоже достаточно величественна, хоть и не так широка, а скорость ее течения ясно указывала, что недалека стремнина. Впрочем, в излучине между Головой Индейца и горой Вернона было достаточно просторно для маневрирования самых крупных военных кораблей. Река изгибалась в этом месте широким ярко-изумрудным полумесяцем, в ее глади отражалась растительность, густая, несмотря на то, что стоял еще только апрель. Однако ранняя весна вообще характерна для мягкого климата Виргинии; то там, то тут на фоне темной зелени кедров, сосен и дубов вспыхивали белые и розовые свечи грушевых, вишневых, персиковых, миндальных деревьев.
— Хочешь остаться наедине с воспоминаниями? — спросил Тим то ли с насмешкой, то ли с умилением. — В таком случае не буду тебе мешать. До завтра, дружище. Жди меня.
Тим дружески ткнул его в бок, хлопнул кулаком по своей шляпе, нахлобучивая ее поглубже, что не способствовало улучшению формы сего головного убора, прошагал, по-военному чеканя шаг, к наружному трапу и исчез из виду. Мгновенье спустя шлюпка уже бороздила прибрежные воды — скорее к берегу, — а уж добыть лошадь у паромщика на постоялом дворе, заменявшем в этих местах почтовую станцию, сумеет без труда любой американец, и, едва лодка, скользнув днищем по водорослям, ткнулась в песчаную отмель, Тим выскочил из нее и размашистым шагом стал удаляться.
Жиль подождал, пока его друг скроется из виду, и, не мешкая более, если не сказать торопливо, устремился, как выразился Тим, «навстречу воспоминаниям», воспоминаниям о прекраснейших, благороднейших страницах своей жизни.
Еще накануне, до полудня, едва черный корпус «Кречета», увенчанный фигурой ловчей птицы с распростертыми крыльями, подошел к бухте Чесапик, картины былого, как орда пиратов, принялись осаждать его память. В конце зимы проход между мысом Генри и мысом Чарльза для крупных кораблей был затруднен, поскольку воды Флоридского залива заносили сюда песок.
Но изящный парусник свободно проплыл как раз там, где когда-то, во времена великой битвы, стояло на якоре гигантское судно адмирала де Грасса «Париж», и Жилю почудилось даже, что он снова на всех парусах несется в Историю.
И с каждой минутой, по мере того как его корабль все дальше входил в широкую бухту, Жиль все яснее видел перед собой события прошлого. Он представлял, как горели под летними лучами марсели французских боевых судов, как сверкали яркими красками и золотились их борта, ощетинившиеся пушками, как выстроилась в мощную цепь вся эскадра, перегородив на четыре мили морской путь.
А подзорная труба его уже повернулась в сторону побережья и, пошарив среди холмов, поросших приморскими соснами, и среди болот, отыскала Йорктаун, и Жилю показалось, что ничего там не изменилось, разве что цвет стяга, развевавшегося над крепостью на реке Йорк: тринадцатизвездное полотнище окончательно заменило английский государственный флаг. И «Кречет» залпом из всех своих орудий отсалютовал этому славному символу независимости Америки. Затем Жиль потребовал шлюпку и в одиночестве высадился на берег, пряча под полой загадочный сверток.
Оказавшись в крошечном порту, он с трудом сориентировался. За шесть лет многое изменилось. Мирный край — не то, что поля битвы: израненные войной поля заросли травой. А люди постарались стереть жестокие напоминания о битве. Но при этом они свято хранили память о погибших освободителях родного края. Наспех вырытые после сражения могилы были приведены в порядок, украшены белыми стелами, выровнены и засажены цветами, а рядом зарастали старые траншеи. И лишь редуты сохранялись в прежнем виде, со скатами и онемевшими ныне орудиями, задравшими к небу праздные жерла.
Место, где был похоронен его отец, Турнемин отыскал без труда. Он с гордостью прочел на камне собственную фамилию, фамилию рода, который он мечтал укоренить в плодородной земле Америки, чтобы взросло на ней величественное древо, как то, что доставало ветвями башни замка Лаюнондэ.
Он долго молился за упокой души усопшего.
Потом, достав из-под полы сверток, вынул из него сухой букетик вереска и дрока и мешочек земли, взятой от самого подножия крепостной стены Лаюнондэ. Он высыпал содержимое мешочка на могилу, смешав родную землю с чужой, осторожно положил вереск к обелиску и вновь принялся молиться. Только на сей раз страстная молитва его была обращена не к Господу, а к неприкаянной душе отца и призывала ее сохранить последнего своего отпрыска в грядущих неведомых испытаниях.
Жиль решил, что, позже, выстроив дом на берегу Роанока на той тысяче акров виргинской земли, которую подарил ему в знак признательности американский Конгресс, он обязательно возведет часовню, достойную былого величия и могущества Турнеминов и перезахоронит в ней прах отца, чтобы тот нашел покой и последний приют рядом с детьми и внуками — возможно, всемогущий Господь пошлет еще потомство его внебрачному сыну, которого сам он признал лишь в смертный час перед лицом всего цвета французского дворянства, участвовавшего в битве при Йорктауне.
Хотя один сын у Жиля уже был. Он рос где-то в долине Могаука в лагере вождя ирокезов Корнплэнтера, а родила его вскоре затем скончавшаяся красавица Ситапаноки, индейская принцесса, которую Жиль так страстно любил в дни битв за независимость. О существовании мальчика он узнал лишь год назад; Тим утверждал, что ребенок светловолосый и сероглазый, и он, еще ни разу не видев, уже любил сына и был самым решительным образом настроен забрать его у индейцев, чтобы воспитать французским дворянином и американцем одновременно, даже рискуя испортить еще больше отношения с женой… Впрочем, хуже вряд ли бывает.
С той минуты, когда Жиль вынес из объятого огнем Фоли-Ришелье бесчувственную Жюдит, ему все время казалось, что рядом с ним лишенное души создание, красивая кукла, которой руководят привычки и строгое воспитание, но не разум.
Придя в себя в дорожной карете — ее влекли за собой четыре лошади, мчавшиеся во всю прыть сквозь заснеженную Францию к Лорьяну, — молодая женщина потрясенно оглядела окружающих, словно очнулась от дурного сна. Какое-то время она безмолвно наблюдала за мелькавшим за окном зимним пейзажем, потом перевела усталый взгляд на того, кто являлся ее законным супругом, в чем у нее больше не было сомнений.
— Куда мы едем? — только и спросила она.
— Сначала в Лорьян, там стоит мой корабль.
Оттуда в Америку… Как вы себя чувствуете?
— Хорошо… благодарю вас. Только немного устала.
— Скоро мы остановимся, чтобы сменить лошадей. Вы сможете немного отдохнуть и поесть…
— О! Это ни к чему. Мне ничего не нужно…
И, закутавшись поплотнее в лисью шубу, крытую черным драпом с лисьей же оторочкой, Жюдит снова забилась в угол кареты, откинула голову на подушки — лицо ее было бледно — и, тяжело вздохнув, опять закрыла глаза.
Может, спала, а может, притворялась спящей.
Но только на протяжении всего пути от Парижа до Лорьяна, не меньше ста двадцати пяти миль, веки ее были сомкнуты. При смене лошадей она послушно выходила из кареты, следовала в комнату на постоялом дворе, куда тут же приходила ее горничная. В последний момент, перед самым отъездом с улицы Клиши, Жиль все же решил взять с собой камеристку. Это была одна из дочерей крестьянина из Обервилье, давно уже служившего семье Жюдит. Простая, честная девушка, искренне привязанная к хозяйке, страшно боялась оказаться на улице. Звали ее Фаншон, и она сама умоляла позволить ей сопровождать госпожу.
В конце концов. Жиль согласился, но только при условии, что горничная соберется в две минуты и не будет брать с собой ничего лишнего.
Жиль настаивал, чтобы, кроме надетого на Жюдит платья и шубы, накинутой на нее, ни единой вещи не было взято из дома, любое напоминание о котором жгло его стыдом и гневом.
Однако путь предстоял неблизкий и Жиль позаботился о жене: на одну из повозок погрузили большой сундук со всем, что может понадобиться молодой женщине в дороге. Приобретением вещей занималась мадемуазель Фаншон, уже однажды выполнявшая подобное поручение перед свадьбой своих юных друзей.

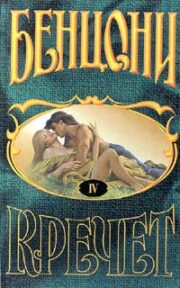
"Верхние Саванны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Верхние Саванны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Верхние Саванны" друзьям в соцсетях.