Эта мысль пришла ей в голову, когда она сидела у очага рядом с матерью. Киква пряла, а Рианнон в ступке растирала душистую приправу. Рианнон издала раздраженный звук, и Киква подняла глаза.
– Ты наконец решила свою головоломку? – спросила она.
– Головоломку? – отрывисто переспросила Рианнон. – Ты считаешь, что я забавляюсь?
– Не каждая головоломка – игра. Некоторые из них представляют собой вопрос жизни и смерти, – миролюбиво ответила Киква.
Рианнон молчала, устыдившись своего беспричинного выпада.
– Боюсь, что ответа на эту головоломку не существует, – сказала она наконец. – Я не хочу любить Саймона, но избавиться от любви не могу.
– А почему бы тебе не любить его?
Кикву нисколько не удивили слова Рианнон. Письмо Ллевелина было достаточно ясным и содержало настолько точно, насколько мог передать Ллевелин, а он предпочитал не лгать Кикве, изложение всей истории с обеих точек зрения, как он слышал ее от Саймона и Рианнон. Интересно, что письмо заканчивалось просьбой к Кикве отправлять свои новости, если таковые будут, в замок Билт.
Ровно настолько Ллевелин осмеливался дать понять Кикве, что хотел бы видеть Рианнон замужем за Саймоном. Если бы он пытался приказывать Кикве, это легко могло привести к противоположному результату, поэтому Ллевелин действовал уклончиво. В данном случае, однако, стремления Ллевелина и Киквы совпадали полностью. Рианнон необходимо было выйти замуж. По своей природе она отличалась от матери. Киква сожалела об этом, но принимала это как данность. Она считала невезением то, что Рианнон не смогла найти подходящего жениха, когда была помоложе, пока не устроила себе такой уютный образ жизни. Было бы гораздо лучше, если бы Рианнон вышла замуж лет семь-восемь назад, но ни один мужчина не привлекал ее внимания; хуже того, до Саймона не было на ее пути ни одного мужчины, который позволил бы ей остаться самой собой.
Рианнон продолжила свой рассказ, закончив страстной репликой, что для женщины настоящее безумие влюбляться в какого бы то ни было мужчину.
– Я так всегда и думала, – согласилась Киква с легкой улыбкой, – но мне кажется, что ты слишком поздно задумалась об этом. Ведь очевидно, что ты уже влюблена в Саймона.
– Я избавлюсь от этого! – сердито воскликнула Рианнон.
Киква пристально посмотрела на нее и отложила веретено.
– Ты знаешь, что не в моих привычках копаться в душах других людей. Это ни к чему хорошему не приводит. Но мне придется, потому что я разочарована в тебе. Ты поступаешь, как последняя дура.
Рианнон потупилась.
– Ты тоже думаешь, что я жестока по отношению к Саймону и что лучше страдать мне, чем ему?
– Ты уже совсем потеряла рассудок? – спросила Киква. – Как я могу предпочитать счастье Саймона твоему? Ты моя дочь, плоть от плоти моей, кость от моей кости. Ради тебя я стонала от боли при родах и вздыхала от счастья, вскармливая тебя грудью. Я не скажу, что безразлична к Саймону. Я довольна им, но он для меня ничто по сравнению с тобой.
– Тогда почему ты разочарована во мне? – Рианнон оторвала глаза от пола.
Мать издала короткий нетерпеливый звук.
– Ты уже прожила двадцать две весны, Рианнон, и с тех пор, как тебе миновало шесть или семь лет, тебе достаточно было задать один-два вопроса, чтобы понять свое сердце и найти правду. Но после твоего знакомства с Саймоном ты снова превратилась в капризного, плаксивого младенца. Зачем ты обманываешь себя, дочка?
Именно поэтому Рианнон не поделилась сразу по приезде своими горестями с матерью. От Киквы никогда не приходилось ждать сочувствия, разве что коленку разобьешь или пчела ужалит. Жалобы на душевное страдание лишь вызывали поток расспросов, которые так ясно высветляли причину, что решение открывалось само собой. К сожалению, решение редко бывало легким или приятным.
– Ведь это не первая твоя попытка излечиться, – продолжала Киква. – Когда ты впервые встретилась с Саймоном, ты отослала его прочь. Помогло это? Ты была даже готова уверить себя, что ты телка, которой просто нужен все равно какой бык. Помогло это? Ты действительно веришь, что существует средство исцеления от любви?
– Должно быть! Что, если Саймон умрет или не захочет меня?
– Если бы он никогда не хотел тебя, то сомневаюсь, что ты полюбила бы его. Чтобы любить мужчину, нужно его познать. Любоваться издалека красивым лицом и кипеть внушенной себе страстью – не любовь. Он стремится к тебе, и этот вопрос отпадает, даже если ему придется переменить свое отношение к тебе из-за твоей глупости – мужчинам надоедают женщины, которые отрезают себе нос назло своему лицу. Да, знаю, это выражение Саймона, но оно очень удачное. Если он умрет… Глупое дитя, неужели ты думаешь, что я стала бы меньше любить Гвидиона из-за того, что он мертв?
– Но ты же страдала, когда он умер, невероятно страдала.
– Совершенно верно. И я до сих пор страдаю – в том смысле, что мне не хватает его присутствия. Прошло более десяти лет, а я не исцелилась от этого. По правде говоря, я и не хотела бы исцелиться. Моя любовь к Гвидиону доставляет мне огромное удовольствие. И пусть к моим чувствам примешано немножко горечи! Что ж, такова жизнь. Неужели ты действительно хочешь загубить десять или двадцать лет своей жизни, потратив их на попытки избавиться от такого удовольствия?
– Это не займет так много времени. У меня ситуация другая – я-то хочу исцелиться.
Киква в первый раз за все время разговора взглянула на нее с настоящим беспокойством и наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть лицо дочери.
– Что заставляет тебя ненавидеть себя, Рианнон? Дочка, за что ты наказываешь себя?
– Ненавидеть себя? – Рианнон повысила голос. – Я не пытаюсь наказывать себя. Я пытаюсь спасти себя от боли.
– Каким образом? Подвергая бесконечным мукам? Это правда, что всякий, кто любит, испытывает страх, и это причиняет боль. Но есть и удовлетворение. Страх длится недолго и возникает нечасто, в то время как наслаждение длится вечно. И даже, смешиваясь с болью…
– Оно делает боль острее и мучительнее, – зло парировала Рианнон.
– Острее, да, но и слаще тоже, потому что она делится на двоих.
– Я не желаю делиться, – воскликнула Рианнон, вскакивая на ноги. Она была так взвинчена, что не заметила даже, как ступка упала на пол, рассыпав содержимое. – Почему я должна связывать свою жизнь цепями? Почему мое сердце должно трепетать, когда из груди лорда Иэна доносится хрип? Почему я должна страдать, когда леди Джиллиан беспокоится о своем муже? Почему меня должно волновать, найдет ли Сибелль себе подходящего жениха? Мне нужна только свобода!
– Теперь я знаю, почему ты ненавидишь себя, дочка, – сказала Киква.
С этими словами она взяла веретено и вернулась к своей работе. Задыхаясь гневом и яростью от сказанного матерью, Рианнон отбросила ногой ступку и выбежала из комнаты. Только тогда Киква позволила себе улыбнуться. Задача была почти решена. Скоро Рианнон поймет, что сама сказала. Еще день-два мучительной борьбы, и она примирится со своим грузом. Глаза Киквы стали печальными и задумчивыми. В ней никогда не было этого: способности сочувствовать чувствам других. Она знала и понимала, что чувствовали люди, и зачастую гораздо яснее, чем они сами, но не сопереживала этому душой. Ее искусство состояло в том, чтобы за словами понять причину проблемы, но ни слова, ни причина никогда не трогали ее, даже когда дело касалось родной дочери.
Затем она пожала плечами. Каждый человек таков, каким его создал Господь. Она живо отложила работу и вытащила из сундука прибор для письма. Заточив перо, она открыла чернильницу и принялась писать: «Принцу Ллевелину приветствия от Киквы. Надеюсь, что вы живы-здоровы, как и я сама. Рианнон тоже уже в порядке или скоро будет. Если возможно поскорее устроить ее встречу с Саймоном, это было бы самым лучшим выходом, пока он не выкинул какую-нибудь глупость. Даже если он не думает ни о чем таком, чем дольше она будет размышлять над тем, что натворила, тем больше это принесет ей вреда и тем сложнее будет добиться согласия между ними. Поэтому, если существует повод отправить ее к Саймону, найдите его. Писано в последний день октября в Ангарад-Холле».
Чуть позже, когда в комнату к ней вошел один из охотников, она вручила ему это письмо и велела доставить его как можно быстрее принцу Ллевелину в Билт.
Рианнон, выбежав из дома, пересекла двор. Ночь была холодной и кусала ее разогретое у огня тело. Она инстинктивно повернула к конюшне, где тепло дышали лошади. Но ее настроение обеспокоило лошадей. В углу были заперты полдюжины ягнят. Рианнон не могла понять, почему они здесь, а не на пастбище, но бросилась к ним, полная благодарности за их тепло и мирный характер. Они-то не отреагируют, как лошади, на шторм, бушевавший в ее груди.
Ненавидеть себя! Ее мать, что, с ума сошла? Рианнон изо всех сил цеплялась за свой гнев и чувство обиды. Выпустить ярость наружу открыло бы путь к вечному заточению. Всю свою жизнь она выбирала сама, работать ей или играть: она одевалась, как сама пожелает, говорила, что хотела и кому хотела. Неужели она должна пожертвовать этой свободой? Неужели ей всегда придется думать, понравится ли другим то, что она скажет, сделает, как оденется? Как смеет Киква утверждать, что она знает, почему Рианнон ненавидит себя? Разве не свободу выбрала Киква для себя самой?
Но выбрала ли она? Имела ли Киква большую свободу выбора, чем сама Рианнон? От этого вопроса, когда Рианнон поняла его значение, холодок побежал по ее телу. Она не знала, был ли выбор Киквы свободным – христианская вера учит, что свободной волей обладает мужчина, – но она наконец поняла: у нее самой выбора не было. Избегает она Саймона или нет, ее все равно заботит, что происходит с ним, и не только с ним, но с ними со всеми. Она уже запуталась в паутине любовных взаимоотношений, и пути выбраться на свободу уже не было. Она могла погибнуть в борьбе, ненавидя себя за попытки избежать уз любви, или примириться с этой шелковой тюрьмой со всеми ее удобствами и радостями, а также болью от кандалов.

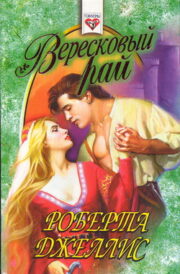
"Вересковый рай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вересковый рай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вересковый рай" друзьям в соцсетях.