Рианнон тоже была далеко не так несчастна, как ожидала. Она не слишком любила города с их грязью, вонью и неестественной скученностью людей и лошадей, так что порой казалось – яблоку негде упасть. Тем не менее города, которые она знавала раньше, были ничем – пылинками – по сравнению с Лондоном. Под защитой воинов Саймона она разъезжала, где ей хотелось, приходя то в ужас, то в восхищение.
Несмотря на свою неприязнь, несмотря на приступы отвращения, которые охватывали ее при мысли о жизни в таком месте, Рианнон знала, что, может быть, никогда больше ничего подобного не увидит. Она бродила по улицам, толкаясь в толпе, с любопытством вертя головой, покупала семена неизвестных ей трав, шелка, тонкие и легкие, как туман. Денег у нее не было, но, когда она называла дом Элинор, торговцы с величайшей готовностью доставляли товары прямо туда, и Саймон платил. Рианнон это совершенно не заботило. Киква или Ллевелин рассчитаются с долгом.
Эти приятные дни закончились двадцать девятого сентября, когда с наступлением темноты в их дом прибыл усталый гонец с короткой запиской от Иэна, сообщавшей, что Хьюберт де Бург бежал из тюрьмы в Дивайзесе и нашел убежище в какой-то церкви. Поскольку Рианнон довольно часто слышала имя де Бурга, но практически ничего о нем не знала, Саймон полночи рассказывал ей о долгой и бурной карьере де Бурга.
– Он действительно все еще опасен? – спросила она в конце рассказа.
Саймон пожал плечами.
– Трудно сказать. Он многих людей осыпал милостями, но у него фактически нет родственников, а ты знаешь, что полученные милости редко делают людей благодарными. Но это также зависит от самого человека: если он сгорает от ненависти и злобы и кричит вслух о нанесенных ему обидах, требуя участия от тех, кому он помогал прежде, очень может быть, учитывая враждебные настроения по отношению к королю, он сумеет поднять своих сторонников. Кроме того, он знает Генриха. Его советы могли бы оказаться очень полезными врагам короля.
– Но если он заперся в церкви…
Саймон снова пожал плечами.
– Это ненадолго. Это просто акт отчаяния. Он, должно быть, прослышал, что Генрих собирался поручить надзор за Дивайзесом Винчестеру, а это означало бы его смерть. Возможно, тюремщики тоже этого боялись и, не желая марать кровью свои руки, позволили ему бежать. Но все это бесполезно. Король отправит своих людей окружить церковь и перекроет доставку пищи и воды. Точно так же он был захвачен в предыдущий раз. Чтобы спастись от голода, он тогда вышел из своего убежища. Разумеется, в прошлый раз он рассчитывал на милость, но на этот раз…
Но событиям не было суждено развиться по ожидаемому сценарию. В ту же самую ночь в Лондон прибыл еще один гонец с более пространным посланием. Хьюберт бежал не в результате сговора тюремщиков. Двое молодых стражников, Вильям де Миллерс и Томас Чемберлен, прониклись жалостью к сломленному старику. Один из них перенес его вместе с кандалами в церковь. Однако хозяин Дивайзеса, представив себе, что его ожидает после этого побега, отправил вдогонку целый гарнизон. Они нашли беглеца и, презрев неприкосновенность святого убежища, выволокли де Бурга из церкви, несмотря на то что он цеплялся руками за алтарь с крестом, и вернули его в тюрьму.
Саймон взволнованно кряхтел, читая эти строки. Это казалось ему серьезным просчетом, поскольку король – глубоко религиозный человек. Кроме того, оскорбление, нанесенное церкви, было как раз тем поводом, которого так ждала его семья, чтобы настроить епископов против их коллеги-прелата. В настоящее время, писал Иэн, Генрих так разъярен, что никого к себе не подпускает. Он приказал надежно запереть де Бурга в подвале, где он прежде находился, и заковать тремя парами кандалов; старика лишили возможности общаться даже со стражей. Если человека наказывали за то, что он пытался найти приют в храме Божьем, это было, разумеется, еще большим оскорблением церкви. Как Саймон и ожидал, в конце письма Иэн поручал ему передать эти новости епископу Лондонскому.
Рано утром на следующий день Саймон отправился во дворец, где он с облегчением узнал, что епископ находится в своей резиденции. Его просьба об аудиенции была удовлетворена. На всякий случай Саймон упомянул, что его отец никогда не любил вмешиваться в дела, относящиеся к епархии церкви. Это было истинной правдой, хотя Саймону пришлось на мгновение остановиться, чтобы подавить неуместную улыбку, которая рвалась из него при некстати всплывшем воспоминании о некоторых действиях, предпринятых в прошлом Элинор и Джоанной против священников, которые были не согласны с ними.
Эта пауза оказала свое воздействие, хотя Саймон и не думал воспользоваться ею как способом драматизировать события. Епископ подбодрил его, уверив, что он не станет расценивать его слова как вмешательство не в свои дела. Полностью взяв себя в руки, Саймон изложил свою историю, в достаточной степени напугав Роджера Лондонского. Хотя епископ ничего не сказал Саймону о своих намерениях, стальной блеск в его глазах и крепко сжатые челюсти поведали о его намерениях не хуже слов. Роберт Солсбери, на чьих глазах произошло насилие, сам проявит инициативу, но святой Роджер Лондонский поддержит его, а ведь он уже выиграл когда-то одну схватку с королем.
20
Несколько дней прошли спокойно, а затем письма от Иэна посыпались вновь. Роберт Солсбери вступился за Хьюберта де Бурга или скорее за привилегии церкви. Сначала он отправился к кастеляну Дивайзеса и велел ему отправить Хьюберта обратно в церковь. Кастелян принялся оправдывать действия своих людей, а когда все его аргументы были отвергнуты, без обиняков заявил, что предпочитает, чтобы повесили Хьюберта, а не его. Роберт Солсбери, которого это оправдание устроило не более всех остальных, тут же отлучил от церкви всех исполнителей насилия над беспомощным стариком и направился в Оксфорд, где имел почти столь же горячий разговор с королем.
Вскоре Генрих, предоставив епископу Винчестерскому разбираться со своим собратом, отбыл в Вестминстер. Саймон и Рианнон были предупреждены об этом; им дали знать также и об идее Джеффри, что со стороны Рианнон стало бы очень удачным ходом представиться королю по собственной инициативе и предложить спеть, пока при дворе нет Винчестера. К радости Саймона – прежняя реакция Рианнон на восхищение со стороны короля несколько ущемляла его самолюбие – она не проявила охоты, хотя и признала, что это было бы действительно разумным поступком. Она чувствовала себя более уязвимой в Лондоне, где дикая природа, которая всегда была ее защитой, совершенно исчезла, отдавая Рианнон на милость короля. Саймон тоже согласился, что это было бы наилучшим решением, он не подгонял ее, ограничившись лишь простой констатацией. В конце концов чувство долга в Рианнон преодолело страх, и она согласилась.
Она надеялась, что Генрих будет слишком занят или слишком сердит, чтобы принять предложение Саймона. Однако король, кроме любви к музыке, имел еще одну схожую с Рианнон черту – он тоже пытался бежать от своих проблем. Он обрадовался этому предложению и сразу же ухватился за него, попросив передать Рианнон свои глубочайшие уверения в том, что он чрезвычайно рад ее готовности посетить его. Король приветствовал ее с величайшим радушием и даже обронил шутливую фразу о необходимости свободы для певчих птиц.
Тем не менее Рианнон чувствовала себя далеко не весело и спела о печалях той Рианнон, чье имя она носила, о том, как ревнивые женщины при дворе ее мужа обвинили ее в убийстве своего младенца, вымазав ее собачьей кровью, о горестях и незаслуженном наказании, которые ей пришлось пережить, пока вера, которую испытывал к ней ее муж, не восторжествовала, когда правда вышла наружу.
Песня в точности соответствовала настроению Генриха, и он впервые заинтересовался не только красотой исполнения, но и содержанием сюжета.
– Если Пуилл верил ей, – сказал он после надлежащих комплиментов мастерству певицы, – с его стороны было глупо уступать требованиям его баронов.
– Он и не уступил, – ответила Рианнон. – Они просили его отречься от нее, но он не послушался их. Только ради мира на своей земле и спокойствия в душах его вассалов он согласился наказать Рианнон, и, заметьте, она тоже согласилась с ним и приняла кару если и не с радостью, то с готовностью ради мира.
– Мир – это еще не все, – сказал Генрих, и взгляд его потемнел.
– Я женщина, – пробормотала Рианнон. – Для меня мир – все.
Лицо Генриха тут же просветлело.
– Так и должно быть. Ведь это и есть задача женщины – хранить мир.
Рианнон присела в реверансе, словно благодаря короля за милостивую оценку ее слов, но это был сигнал Саймону, который сразу же подошел к ней и с беспокойством спросил, не устала ли она. Это было заранее договорено между ними и сработало удачно – Генрих мгновенно понял намек и любезно разрешил им уйти. Когда Рианнон снова присела в прощальном реверансе, он взял ее за руку.
– Вы не сбежите снова, если я только выскажу надежду услышать вас в скором времени еще раз, леди Рианнон?
– От вас, милорд, я не сбегу, – уверила она его. – Однако дело не только в моих желаниях. Моя мать одна. Я должна отправляться домой, чтобы помочь подготовиться к зиме. Это очень суровое время в горах, где мы живем. Снега порой бывает так много, что охотники не в состоянии выезжать, и мы вынуждены сидеть взаперти в своих жилищах. Еще очень много нужно сделать, пополнить запасы, чтобы пережить самые тяжелые месяцы. Но я обещаю вам, что приеду снова, как только смогу, и с большой радостью.
– Из самого Уэльса, только ради того, чтобы спеть для меня?
– Да, – подтвердила Рианнон, – из самого Уэльса, чтобы спеть для вас, милорд, потому что очень немногие умеют слушать так, как вы. Вы понимаете и цените мое искусство. Если вы захотите принять меня, несмотря на то, как события могут повернуться в будущем, я приеду.
– Я приму вас в любое время. Между нами – во имя искусства – всегда будет мир, – уверил ее Генрих, и было совершенно ясно, что он понял намек на возможную в будущем вражду между ним и ее отцом. Он почти открыто пообещал, что не поставит ей это в вину, так как у нее нет власти как-либо влиять на события.

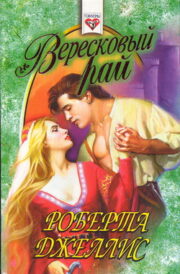
"Вересковый рай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вересковый рай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вересковый рай" друзьям в соцсетях.