– Долой детей! Детей долой! Мы хотим видеть ее одну, без детей!
Смертельная бледность покрыла лицо Марии Антуанетты. Она быстро протянула сына герцогине де Турзель:
– Возьмите мальчика. И уведите принцессу.
Теперь королева стояла одна, прекрасно зная, почему от нее потребовали отдать детей. Несколько ружей было направлено ей в грудь.
– Боже, они убьют ее! – воскликнула я в ужасе. Толпа была готова взорваться – то ли от ярости, то ли от невольного уважения. Напряженность минуты была такой сильной и пронзительной, что генерал Лафайет, не выдержав, бросился на балкон и, слегка прикрыв королеву собой, опустился перед ней на одно колено и поцеловал ей руку.
Только теперь толпа разразилась отчаянными воплями – восхищенными и приветливыми:
– Да здравствует королева! Да здравствует ее величество!
Мария Антуанетта своим мужеством укротила эту беснующуюся толпу безумцев. Женщины, еще недавно рвавшие в клочки тела королевских гвардейцев, теперь плакали от радости, уверяя друг друга, что королева любит их, как Иисус Христос святую церковь. Королева молчала. Она уже хорошо знала, чего стоят эти восторги.
Бледная и спокойная, она вернулась в комнату. Камеристка подбежала, чтобы поддержать ее, но королева сделала протестующий знак рукой:
– Благодарю вас, со мной все в порядке. Обращаясь к королю, она спросила:
– Неужели мы все-таки уезжаем в Париж?
– Соберите свои вещи, – распорядился король. – Наш кортеж отбывает в час дня.
Мария Антуанетта ничего не возразила, не желая поставить короля в неловкое положение, хотя я отлично видела, что она предпочла бы быть застреленной, чем уехать сейчас в Париж.
Вместе со своей свитой она отправилась в свои апартаменты, где после недавнего набега все было разграблено и перебито.
– Они полагали, что я спряталась в шкафу или под кроватью! – горько усмехнувшись, сказала королева, созерцая этот разгром. – Вы видите, Сюзанна? Разве не говорила я, что вы приехали в самый ад? Разве я до сих пор могу называться королевой?
– Государыня, – тихо сказала я, – для меня, для всех дворян вы всегда будете королевой, поверьте.
– Я верю вам, и я люблю вас, – проговорила она. В ее глазах стояли слезы. – Вот видите, я плачу. Ведь я не каменная, правда? Я тоже испугана. И как я жалею, что еще тогда, в июле, мы не послушались вашего отца!
– И что же предлагал мой отец? – спросила я удивленно.
– На другой день после взятия Бастилии он явился сюда и сказал королю: «Государь! Желает ли ваше величество спасти Францию? Если да, то соблаговолите встать во главе вашего немецко-королевского полка, и всяким дискуссиям будет положен конец!» Как жаль, что у короля не хватило решимости, и как жаль, что я не смогла вдохновить его на эту решимость.
Она окинула меня внимательным взглядом:
– Сюзанна, вы ранены?
– Я?
Моя рука была омыта кровью от пальцев до запястья. Кровь уже высохла, запеклась и стягивала кожу. Я вспомнила, как распорола живот человеку, пытающемуся убить Лескюра. – Нет, мадам. Это… не моя кровь.
Меня не покидала мысль, откуда люди, совершившие покушение на королеву и короля, так хорошо знали планировку Версаля. Чтобы разобраться в лабиринте и переплетении тысячи комнат, лестниц, галерей, надо очень хорошо знать дворец. Надо жить здесь или, по крайней мере, иметь его план.
К тому же мне казалось очень странным то, что герцога Орлеанского и графа Прованского ночью не было в Версале, они появились только после неудавшегося нападения – свежие, выбритые и аккуратно одетые, словно готовые принять корону.
Нет смысла подробно описывать ту унизительную дорогу в Париж. Королевская семья, плененная парижанами, возвращалась в столицу Франции; за Людовиком XVI ехало сто дворцовых карет, в которых сидели депутаты Собрания, выразившие желание ни за что не расставаться с королем. Чернь была в авангарде, а в арьергарде ехал удрученный генерал Лафайет на своем великолепном белом коне. Впереди несли на пиках головы несчастных лейб-гвардейцев Дезютта и Вариньи. Негодяям, убившим их, этого показалось мало, и они разыскали в Севре парикмахера, глумливо заставив его завить мертвым головам волосы.
Был ли в истории пример такому надругательству? Наверное, если бы старик Вольтер снова спросил, обращаясь к французам: «Что изобрели вы, галлы?» – то французы могли бы ответить, что не знают равных в мире по жестокости.
Мне было и горько, и стыдно. Горько за то, что гнусные убийцы, приплясывающие вокруг королевской кареты, являются моими соотечественниками и говорят на одном со мной языке. Я бы предпочла, чтобы они были дикарями из Гвианы, только не французами. А стыд я чувствовала потому, что у короля не хватило сил сопротивляться, что он решил унизиться, и мы разделили с ним это унижение.
Разве так поступили бы Генрих IV и Людовик XIV? Решительные и смелые, они бы встали во главе даже горстки оставшихся верными солдат и бросились бы в бой, найдя там или победу, или смерть. Такими королями аристократы гордились бы и считали бы честью отдать за них жизнь. А Людовик XVI мог только молиться, размышлять и говорить о недопустимости гражданской войны. Мария Антуанетта обладала куда большей энергией и гордостью, но, будучи только королевой, она могла отомстить за унижение своего супруга лишь молчаливым презрением.
Впрочем, а можно ли укорять короля, укорять только за то, что он не желает проливать кровь?
К вечеру, когда уже смеркалось, королевский кортеж прибыл в столицу. Ехали так медленно, что я чувствовала себя совсем измученной. Я уже несколько дней не смыкала глаз и ничего не ела; платье у меня помялось, прическа растрепалась. У меня даже не было времени отмыть руку от крови. В одной карете со мной плакал от голода дофин Шарль Луи. Ему хотелось есть и, видя вокруг себя множество пик, на которых были наколоты буханки хлеба, он просил хотя бы кусочек. Королева суровым тоном сказала сыну, что у этих людей ничего просить не следует, и бедный ребенок замолчал.
– Мы везем в Париж пекаря, пекариху и пекаренка! – радостно кричали мятежники, имея в виду короля, королеву и их сына.
Аксель де Ферзен ехал рядом с каретой. Изредка королева тайком протягивала ему руку и он, не осмеливаясь поцеловать ее в присутствии короля, обменивался с Марией Антуанеттой незаметным рукопожатием. Они любили друг друга, я это видела.
Что касается маркиза де Лескюра, то я потеряла его из виду еще утром. Он был ранен, возможно тяжело… На всякий случай я передала адрес его жены королеве.
– Лескюр – это такой блестящий офицер, голубоглазый блондин, да? – спросила она.
– Да, мадам.
– О, он жив, я знаю. Я видела, как он вскочил на лошадь. Наверняка он едет сейчас с фландрским полком. В трехцветной кокарде…
Солдат фландрского полка заставили снять белые роялистские отличия и надеть новые, патриотические, трехцветные.
– Ах, ваше величество, – проговорила я, – сомневаюсь, чтобы маркиз де Лескюр был в такой кокарде, даже если бы ему угрожали смертью.
После въезда в Париж был еще длинный и утомительный прием в Ратуше, где академик и талантливый ученый-астроном Сильвен Байи, ставший мэром Парижа после того, как его предшественник Флессель был растерзан чернью, читал длинную речь, вызвавшую раздражение королевы. Только к одиннадцати вечера королевская семья прибыла в Тюильри – дворец, где ей отныне предстояло поселиться.
Здесь не было ни ужина, ни кроватей, и размещаться пришлось по-походному. Королева заняла помещение графини де ла Марк, а король – маршалов де Ноайля и де Муши. Ужин им готовил повар, одолженный у графини.
Дофину не нравился Тюильри, холодный и неуютный:
– Здесь так сыро! И такие маленькие комнаты! Матушка, давайте уедем отсюда!
Мария Антуанетта нежно обняла ребенка.
– Ваше высочество, Тюильри был построен при Екатерине Медичи, здесь жили Карл IX, Генрих III и Генрих IV. Здесь жил даже Людовик XIV. Неужели мы будем капризнее ваших великих предков?
Она забыла прибавить, что в то время дворец имел несколько иной вид.
Я сочла, что мой отель на площади Карусель будет более уютным, чем та Каморка, которую мне могли выделить в Тюильри. Мария Антуанетта отпустила меня. Мы с Маргаритой вернулись домой около полуночи и были, особенно я, в ужасном виде.
Я не хотела ничего другого, кроме ванны и теплой постели. Я даже не могла есть. Впервые в жизни мне выпали такие трудные и опасные два дня.
– Смотрите-ка, – сказала Маргарита, – чей-то конь привязан к дереву. Кто-то приехал, да?
– Какой-то военный вас уже несколько часов дожидается, – сообщила Колетта, одна из служанок. – Он приехал в восемь вечера и так настаивал, что я не могла его не впустить.
Холодея от радости – да, именно холодея, – я проговорила:
– Как его зовут, Колетта?
– Не знаю, сударыня. Мне кажется, что он из флота.
– Где он ждет?
– В главной гостиной, сударыня.
Подобрав юбки, я побежала туда. Я знала, кто приехал, я была уверена в этом и благодарна ему. Я даже не смела надеяться… Мне казалось, что я сойду с ума от счастья. Я позабыла обо всем на свете – о своем ребенке, о революции, которая питает ко мне враждебность, о себе самой. Во всем мире существовало только это восхитительное ощущение счастья, близость Франсуа, его руки и его губы на моих губах.
Задыхаясь от счастья в его объятиях, я откинулась назад, желая рассмотреть его повнимательнее. Я не спрашивала, где он был, когда в Версале меня хотели убить, почему появился только сейчас и почему не защищал меня. Я видела только несколько серебряных нитей в его черных как смоль волосах. Сердце у меня сжалось от любви и тревоги: ему ведь всего тридцать четыре года! До чего доведут его эти бесконечные политические распри?
– Вы пришли! – прошептала я радостно. – О, Франсуа, я совершенно очарована вашим появлением.

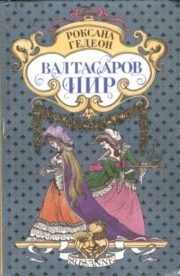
"Великий страх" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великий страх". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великий страх" друзьям в соцсетях.