Когда дело выходит наружу, он сваливает всю вину на своего посла и на какие-то пропавшие письма. Оправдания эти более чем сомнительные, но я не жалуюсь. Отец присоединится к нам, как только запахнет победой, как только сложится выигрышное для нас положение. Главное для меня сейчас, чтобы Генрих заполучил свою кампанию во Франции и предоставил мне разобраться с шотландцами.
— Он должен научиться тому, как вести солдат в бой, — замечает мне сэр Томас Говард. — Это, простите меня, ваше величество, совсем не то, что вести приятелей в кабак…
— Да-да, — соглашаюсь я. — Он должен заслужить звание рыцаря. Но ведь это такой риск…
Старый солдат накрывает мою руку своей.
— Не беспокойтесь, ваше величество, короли редко гибнут на поле битвы, — говорит он. — Король Ричард тут не пример, он, знаете ли, почти что искал смерти. Он знал, что его предали. Куда чаще королей берут в плен и отпускают за выкуп. Но этот риск несравним с тем, на какой пойдете вы, если снарядите остатки армии для похода на Шотландию.
На мгновение я теряюсь. Я и предположить не могла, что сэр Томас видит, к чему я клоню.
— Кто еще думает так же, как вы?
— Больше никто.
— Вы с кем-нибудь говорили?
— Боже сохрани! Мой первейший долг — способствовать процветанию Англии, и я думаю, что вы правы. Шотландцев следует утихомирить раз и навсегда, и сделать это лучше, когда король в безопасности за границей.
— Похоже, моя безопасность вас не заботит? — сухо интересуюсь я.
С улыбкой он делает легкий поклон:
— Вы королева! Горячо любимая, смею думать. Но королева может быть и другая. А другого короля Тюдора у нас нет.
— Вы правы, — соглашаюсь я. В самом деле, меня заменить можно. Генриха — нет. Во всяком случае, пока у нас нет сына.
Итак, сэр Томас Говард меня раскусил. Понял, что я вижу основную опасность для Англии на севере, на границе с Шотландией. Эту мысль привил мне Артур. Значит, я должна вести войско на север, а Генрих пусть наряжается в красивые доспехи и со своими приятелями отправляется во Францию, где будет что-то вроде турнира. А вот на северной границе предстоит кровавая работа, сделав которую мы обеспечим Англии безопасность на много поколений вперед. Если я хочу такой безопасности для себя, для своего нерожденного еще сына и для тех королей, которые будут после меня, я должна усмирить шотландцев.
И даже если не будет у меня сына, если не будет у меня случая пойти на поклонение в Вальсингам поблагодарить Богоматерь за дарованное мне дитя, усмирив шотландцев, я все равно выполню свой первейший долг перед моей любимой Англией. Даже если погибну в битве.
Я поддерживаю в Генрихе военный дух, не позволяю ему терять терпение и волю. Я противостою членам Тайного совета, которые в ненадежности моего отца видят еще один повод, чтобы не ввязываться в войну. Втайне я с ними согласна. Думаю, у нас нет причин для серьезного конфликта с Францией, и особых выгод эта война не сулит. Но я знаю, что Генрих спит и видит повоевать, что он считает Францию нашим врагом, а короля Людовика — своим соперником. Мне нужно, чтобы этим летом, когда я пойду бить шотландцев, Генрих оказался подальше. Единственный способ добиться этого — посулить ему победоносную войну.
Я провожу часы на коленях в часовне, но говорю там с Артуром. «Я уверена, что права, любовь моя, — шепчу я в сомкнутые ладони. — Я уверена, ты справедливо настраивал меня против шотландцев. Если все случится, как я задумала, в этот год решится судьба Англии. Я пошлю Генриха во Францию, а сама пойду на шотландцев, а шотландцы будут пострашнее французов, потому что самый страшный враг — это тот, кто может ночью нарушить твою границу…»
Я почти что вижу его в темноте, которая клубится за сомкнутыми ресницами. «Да, милый, да, — шепчу я. — Ты можешь думать, что женщине не место во главе армии. Ты можешь думать, что женщине не к лицу доспехи. Но я знаю о войне больше, чем большинство мужчин, которые толкутся при мирном английском дворе, где рыцари считают, что война ничем не отличается от турниров и что война — это игра. Но я-то знаю, о чем говорю. Этим летом ты увидишь меня такой, какой бывала моя мать, когда встречалась лицом к лицу с врагом. Англия теперь моя страна, ты научил меня любить ее. Ее враги — мои враги, и я пойду защищать ее — для тебя, для себя, для наших наследников…»
Англичане деятельно готовились к войне. Под руководством Томаса Уолси составлялись призывные списки, собирался провиант, изготавливалось вооружение, проводились учения новобранцев. Однажды Уолси заметил, что у королевы два призывных списка, словно она готовит две армии.
— Ваше величество, — осторожно спросил он, — похоже, вы полагаете, что нам придется воевать на два фронта? На мой взгляд, шотландцы покажут зубы, как только мы высадимся во Франции. Нам лучше бы усилить оборону границ.
— Я надеюсь сделать больше, чем это, — только и ответила королева.
— Ваше величество, вряд ли король одобрит подобное распыление сил…
Она не посвятила его в свои планы, на что он явно рассчитывал, а только заметила:
— Конечно. Мы должны позаботиться о том, чтобы отправить в Кале мощную и боеспособную армию. У короля не должно быть оснований думать, что силы распылены.
— Однако шотландцы-то непременно атакуют…
— Это забота пограничных войск, — сказала она и отвернулась от Уолси.
Верховный адмирал Англии, красавец Эдуард Говард, нарядный, в новом плаще темно-синего сукна, пришел попрощаться с Екатериной. Флот готовился к отплытию, чтобы запереть французов в порту или, если удастся, навязать им сражение в открытом море.
— Благослови тебя Бог, — проговорила королева и поняла, что голос ее дрожит от волнения. — Благослови тебя Бог, Эдуард Говард, и да сопутствует нам удача!
Он поклонился.
— Получить напутствие великой королевы — уже удача! Это такая честь — служить моей стране, моей стране и… — он понизил голос, — и вам, моя королева!
Екатерина улыбнулась. Все друзья Генриха вели себя так, словно они пажи из рыцарского романа. Послушать их, так Камелот совсем рядом, за углом. Екатерина выступала в роли Прекрасной дамы с тех самых пор, как стала королевой. Эдуарда Говарда она выделяла из всех, ценя его за добрый нрав и искренность, завоевавшие ему множество друзей, а также за страстную любовь к морю и кораблям. Королева была уверена в том, что безопасность Англии будет обеспечена лишь сильным флотом.
— Вы мой рыцарь, и я знаю — вы завоюете славу и своему имени, и моему, — произнесла она, и, довольно блеснув глазами, Эдуард Говард склонил свою темноволосую голову, чтобы поцеловать ей руку.
— Я приведу вам французские галеасы, — пообещал он, — как раньше доставил шотландских пиратов.
— Очень хорошо. Мне нужны галеасы, — серьезно сказала она.
— Приведу, даже если придется для этого умереть!
— Умереть?! И не вздумайте! — строго погрозила она. — Вы мне нужны даже больше, чем галеасы! — Она протянула ему вторую руку. — Каждодневно я буду молиться о вас!
Он поднялся с колена и с широким взмахом плаща вышел из комнаты.
Только в День святого Георгия явился гонец с долгожданными вестями об английской флотилии, и явился с мрачным лицом. Сидя бок о бок, мы с Генрихом выслушиваем рассказ о морской битве, которую Эдуард надеялся выиграть и которая, думали мы, убедительно продемонстрирует преимущества наших кораблей над французскими. В присутствии сэра Томаса мы выслушиваем весть о судьбе его сына Эдуарда, моего рыцаря, который так верил в себя, что обещал мне французский галеас.
Он запер французский флот в Гулэ-де-Бресте, так что французы не смели и носа высунуть, но Эдуарду не хватило терпения. Он был слишком молод, чтобы дожидаться их следующего хода. Слишком молод, слишком нетерпелив для продолжительной игры. Такой же глупец и торопыга, как наши придворные рыцари, уверенные в том, что они бессмертны. Подобно испанским грандам моего детства, он считал страх чем-то вроде болезни, которой неподвластен. Он думал, что Господь благоволит ему более, чем другим, и ничто ему не грозит.
В условиях, когда английский флот не мог двигаться вперед, а французский был заперт в гавани, он пошел в атаку, под огонь французских пушек, на нескольких гребных лодках. Это было лихачество, напрасная трата чужих жизней и своей собственной, и все потому, что он был слишком нетерпелив, чтобы выждать, и слишком юн, чтобы хорошенько подумать.
Проявив неслыханную отвагу, Эдуард повел абордажную команду на флагманский корабль французского адмирала, и почти сразу, когда схватка стала опасной, подчиненные, Господь их прости, призвали его к отступлению. В страхе и спешке, под пулями они попрыгали с палубы французского корабля в шлюпки, а некоторые прямо в море, и поплыли к своим кораблям, бросив командора, который сражался как безумный, спиной к мачте, один против всех. Он сделал рывок к борту, и, если б шлюпка была внизу, он мог бы спрыгнуть в нее. Но шлюпок там уже не было. Он сорвал с шеи золотой адмиральский свисток и бросил его далеко в море, чтобы тот не достался врагу, и стал биться снова. Тут его ранили в правую руку, он споткнулся, упал. Враги, будь они человечны, могли бы отступить и отдать должное его мужеству, но они этого не сделали. Изрубленный, исколотый, он истек кровью и умер.
Они бросили его тело в море, эти французы, эти так называемые христиане. Показали себя настоящими варварами. Не дали исповедаться, не помолились за умершего, хотя там присутствовал священник. Бросили его в море на корм рыбам…
Только потом, когда до них дошло, что это был Эдуард Говард, адмирал английского флота и сын одного из самых влиятельных людей в Англии, они пожалели о том, что сделали. Не потому, что им стало стыдно, нет, — а потому, что за живого можно было запросить выкуп, и мы заплатили бы, заплатили сколько угодно, лишь бы милый, храбрый Эдуард вернулся к нам. Тогда они послали людей, чтобы те выловили из моря его мертвое тело, распотрошили его, вырезали ему сердце, засолили и вместе с одеждой, в качестве трофея, отправили к французскому двору, а искромсанные останки отослали его отцу.[20]

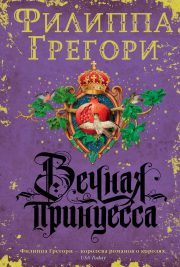
"Вечная принцесса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечная принцесса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечная принцесса" друзьям в соцсетях.