Нет, этого допустить нельзя. Я вижу, что сейчас не мой час. Я даже перестала молиться. Я не спрашиваю, в чем моя судьба. Но бежать я еще могу. И, судя по всему, бежать сейчас самое время.
— Что вы сделали?! — переспросила Каталина. Бумага с описью дрожала в ее руке.
— Я взял на себя смелость, ваше высочество, вывезти из страны сокровища вашего отца. Я не мог рисковать…
— Мое приданое! — возвысила она голос.
— Ваше высочество, мы оба знаем, что оно не понадобится. Принц на вас не женится. Приданое, конечно, они возьмут, но вот свадьбы вашей не будет.
— Это мой вклад в сделку! — закричала Каталина. — Я держу свое слово! Даже если никто другой не держит! Я голодала, я привела в запустение свой дом, только чтобы не прикасаться к приданому! Я дала обещание и сдержу его, чего бы мне это ни стоило!
— Подумайте, ваше высочество! — в отчаянии воскликнул посол. — Король пустил бы его на жалованье солдатам, которые будут сражаться с вашим отцом. Воевать с Испанией на деньги вашего отца! Я не мог этого допустить.
— И ограбили меня!
— Господь с вами, принцесса, — пробормотал дон Фуэнсалида. — Я доставил ваши сокровища в надежное место до лучшей поры…
— Уходите! — резко сказала она.
— Ваше высочество?
— Вы меня предали, так же как меня предала донья Эльвира, так же как предают все и всегда, — с нескрываемой горечью произнесла Каталина. — Оставьте меня. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. Запомните: я больше не скажу с вами ни слова. Никогда. Но будьте уверены, мой отец все узнает. Сегодня же я напишу ему, что вы вор! Вы больше никогда не появитесь при испанском дворе!
Он поклонился ей, дрожа от кипящих в нем чувств, и повернулся, чтобы уйти, слишком гордый, чтобы оправдываться.
— Вы предатель! Да, обыкновенный предатель! — выкрикнула Каталина, когда он был уже у дверей. — И будь у меня власть королевы, я бы казнила вас за предательство!
Фуэнсалида замер. Повернулся к принцессе, еще раз поклонился и сказал ледяным голосом:
— Инфанта, вы роняете себя тем, что меня оскорбляете. Вы глубоко ошибаетесь. Это ваш отец приказал мне вернуть ваше приданое. Я выполнял его прямое и недвусмысленное распоряжение. Ваш отец хотел, чтобы из вашего приданого было изъято все, что представляет хоть какую-то ценность. Это он решил сделать вас нищей. Он хотел, чтобы приданое было возвращено в Испанию, потому что поставил крест на вашем замужестве. Он хотел, чтобы эти деньги хранились в неприкосновенности и были тайно вывезены из Англии. — Помолчав для пущей весомости, он мрачно продолжил: — И должен прибавить, я не получил приказа позаботиться о вашей безопасности. И не получил приказа втайне вывезти вас из Англии. Ваш отец думал только о деньгах. Не о вас. Он даже не упомянул вашего имени. Думаю, он смирился с тем, что вы для него потеряны навсегда…
Не успел он договорить, как пожалел о своих словах: на лице Каталины отразилось глубокое потрясение.
— Как? Он велел вам отослать деньги, оставив меня здесь — и ни с чем?
— Я сожалею, инфанта.
Она повернулась к нему спиной, ничего не видя, вслепую отошла к окну и оттуда взмахнула рукой.
— Уходите!
Эта зима выдалась долгой даже для Англии. И сейчас, в апреле, трава на заре покрыта изморозью и по утрам в окно моей опочивальни бьет свет до того белый, что, проснувшись и открыв глаза, я думаю: вернулась зима, ночью опять выпал снег… Воду в кувшине для умывания за ночь схватывает коркой льда, потому что мы не можем себе позволить ночь напролет поддерживать огонь в очаге. Когда я выхожу утром во двор, мерзлая трава хрустит под шагами и холод пронизывает ступни сквозь выношенные подошвы башмаков. Да, лето в Англии, когда оно наконец придет, мягкое и приятное, но я мечтаю о жгучей испанской жаре. Она выжгла бы, выпарила бы мое отчаяние. У меня такое чувство, что все семь лет я не переставая зябну и что если как-то не согреюсь, то просто умру от холода, размокну, раскисну и меня смоют струи дождя. Если король и впрямь при смерти, как поговаривают при дворе, и принц Гарри вступит на трон и женится на Элеоноре, то тогда я попрошу моего отца позволить мне постричься в монахини и уйти в монастырь. В монастыре не может быть хуже, чем здесь. Не может быть скуднее, холодней, более одиноко. Но отец, похоже, совсем меня позабыл, так, словно я умерла вместе с Артуром. И в самом деле, признаюсь, я каждый день жалею, что этого не произошло.
Я дала себе слово никогда не отчаиваться, и холод, угнездившийся в моем сердце, совсем не похож на отчаяние. Видимо, мое твердое, как гранит, намерение стать королевой обратило меня в камень.
Я пытаюсь молиться, но не слышу Господа. Он тоже забыл меня, как забыли все остальные. Я потеряла всякое ощущение Его присутствия, я перестала бояться Его гнева, перестала радоваться Его милостям. Совсем ничего не чувствую. Я больше не думаю, что я Его излюбленное дитя, и именно потому мне посылаются испытания. Думаю, Он от меня отвернулся. Не знаю почему, но если уж меня забыл мой земной отец, всегда выделявший меня из других своих детей, то отчего ж не поступить так же Отцу Небесному?
Лишь две привязанности остались у меня в этом мире: любовь к Артуру и тоска по Испании, по Альгамбре.
Я живу так, как живу, только потому, что деваться мне некуда. Год за годом втуне уповаю, что фортуна повернется лицом, год за годом принц Гарри становится старше, а помолвка так и остается помолвкой. Каждый год в середине лета, когда положено выплачивать приданое, от отца ни денег, ни письма, и меня донимает стыд, тянущий, как докучная боль. И двенадцать раз в году в течение семи лет — это уже восемьдесят четыре раза — наступают мои дни. Каждый раз, кровоточа, я думаю: вот упущен еще один шанс дать Англии принца. Каждый раз я оплакиваю пятно на постельном белье так, словно это погибший ребенок. Восемьдесят четыре случая родить ребенка в самом расцвете лет. Восемьдесят четыре повода оплакать выкидыш.
Читая молитву, я поднимаю глаза на распятого Христа и говорю: «Да исполнится воля Твоя». Я делаю это ежедневно все эти семь лет — значит, всего выходит две тысячи пятьсот пятьдесят шесть раз. Это арифметика моих страданий. Я говорю: «Да исполнится воля Твоя», но имею в виду: «Да падет гнев Твой на гнусных английских советников, на мстительного английского короля, на старую каргу его мать. Дай мне то, что положено мне по праву. Сделай меня королевой. Я должна быть королевой, должна родить сына…»
«Король умер, — письменно сообщил Каталине посол дон Фуэнсалида, зная, что она откажется его принять. — Полагаю своим долгом уведомить ваше высочество, что король на смертном одре сказал своему сыну, что тот волен жениться на ком пожелает. Если вашему высочеству угодно велеть мне нанять для вас корабль и уехать домой в Испанию, у меня имеются средства на это. Со своей стороны, я не вижу для вас возможности оставаться здесь долее. Вы найдете в этой стране только оскорбления, бесчестье и даже опасность».
— Умер… — произнесла Каталина.
— Простите, ваше высочество? — переспросила одна из камеристок.
Каталина скомкала письмо. Теперь она не верила никому.
— Нет, ничего. Пойду-ка я прогуляюсь.
Мария де Салинас накинула ей на плечи старый, заштопанный плащ, тот самый, в котором Каталина покинула Лондон, когда они с Артуром семь лет назад отправились в Ладлоу.
— Прикажете вас сопровождать? — вяло осведомилась Мария, с тоской бросив взгляд на сереющее за окном небо.
— Нет, не надо.
Я быстро иду вдоль реки. Камешки, которыми посыпана дорожка, впиваются мне в ноги. Иду тороплюсь, словно хочу бежать от надежды. Иду и думаю, есть ли хоть шанс, что удача повернется ко мне лицом. Король, который вожделел ко мне, а потом возненавидел, потому что я его отвергла, умер. Говорят, он болел, но, видит Бог, воля его никогда не слабела. Я думала, он будет править вечно. Но вот он мертв. Теперь решать будет принц.
Я боюсь надеяться. После всех этих жалких, скудных, голодных лет от надежды я могу опьянеть, даже от одной капли ее на моих губах. И все-таки я хочу, чтобы ее дыхание коснулось меня, легкое, как аромат вина в стоящем поодаль бокале, терпкий густой аромат, ничуть не похожий на каждодневный мой рацион, состоящий из тоски и отчаяния.
Потому что я знаю юного Гарри, да, знаю. Я следила за ним зорко, как сокольничий наблюдает за утомившимся соколом. Наблюдала за ним, выносила свое суждение и проверяла это суждение снова и снова. Я знаю его наизусть, как катехизис. Я знаю его сильные и слабые стороны и думаю, что у меня есть некоторые, очень неверные, но все-таки основания для надежды.
Гарри тщеславен, тщеславие — свойственный мальчишкам порок, и я не виню его, однако тщеславен он чрезмерно. С одной стороны, это может побудить его жениться на мне, потому что тогда все увидят, какой он молодец — поступает так, как должно, верен однажды данному слову, выполняет свое обещание, даже, если угодно, спасает меня, свою прекрасную даму. При мысли о том, что Гарри может меня спасти, я замираю на ходу и сжимаю спрятанные под плащ руки так, что ногти больно вонзаются в плоть. Гарри и впрямь может прийти в голову спасти меня, и тогда мне придется быть ему благодарной. Артур умер бы со стыда, только вообразив, что его хвастливый братец меня спасает; однако Артур умер, умерла и моя мать; мне придется справиться в одиночку.
Впрочем, в равной мере тщеславие Гарри может сработать и против меня. Если ему напоют, как богата принцесса Элеонора, как влиятельно семейство Габсбургов, как лестно породниться с императором Священной Римской империи, он, пожалуй, не устоит. Его бабка непременно вставит словечко против меня, а ее слово для Гарри — закон. Она-то, конечно, будет упирать на то, что предпочтительней жениться на принцессе Элеоноре, и он, как всякий юный глупец, не устоит перед соблазном заполучить неведомую красавицу.

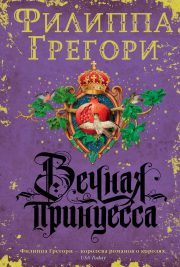
"Вечная принцесса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечная принцесса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечная принцесса" друзьям в соцсетях.