– Можете радоваться, господа, – сказал он наконец, – вы все увидите эту великую и прекрасную революцию, о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель, как вы, вероятно, слышали, и вот я говорю вам: вы увидите ее. Только будущая действительность явно перещеголяет все ваши мечты.
Эро де Сешель ответил ему словами из модной песенки:
Чтоб это знать, чтоб это знать,
Пророком быть не надо!
– Пусть так, – невозмутимо отвечал Казот, – но все же, может быть, и надо быть им, чтобы сказать вам то, что вы сейчас услышите. Знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми нами, здесь сидящими, и будет непосредственным ее итогом, логическим следствием, естественным выводом?
– Гм, любопытно! – произнес маркиз де Кондорсе со своим обычным недобрым смешком. – Жуткими пророчествами занимается и мой отец. Но все равно это любопытно. Почему бы философу не побеседовать с прорицателем?
– Вы, господин де Кондорсе, кончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вас погубит невинный томик Горация, который обнаружат в вашем кармане. Вы умрете от яда, который, как и многие в те счастливые революционные времена, вынуждены будете постоянно носить с собой и который примете, чтобы избежать руки палача. Но ваша участь будет даже завидной для некоторых: других ваших товарищей сгрызут волки в пустынных бордосских ландах.
Мне стало нехорошо от этих слов. Желая замять неловкость, вызванную словами Казота, я произнесла:
– Господин Казот, то, что вы нам здесь рассказываете, право, куда менее забавно, чем ваш «Влюбленный дьявол». Но что за князь тьмы подсказал вам такие вещи? Темница, яд, палач… Что общего может это иметь с философией, с царством разума?
– Об этом-то я и говорю. Все это случится с нами именно в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы. И это действительно будет царство разума, ибо разуму в то время будут воздвигнуты храмы, более того, во всей Франции не будет никаких других храмов, кроме храмов разума.
– Ну, – сказал Шамфор с язвительной усмешкой, – уж вам-то никогда не бывать жрецом подобного храма.
– Надеюсь, сударь. Но вот вы, господин Шомфор, вполне этого достойны, вы им будете и, будучи им, бритвой перережете себе жилы в двадцати двух местах, но умрете вы только несколько месяцев спустя.
Все молча переглянулись. Затем снова раздался смех.
– Вы, господин Вик д'Азир, не станете резать себе жилы собственноручно, но, измученный жестоким приступом подагры, попросите это сделать других, думая кровопусканием облегчить свои муки; вам пустят кровь шесть раз кряду в течение одного дня – и той же ночью вас не станет. Вы, господин Николаи, кончите жизнь на эшафоте; вы, господин де Байи, – на эшафоте; вы, господин де Мальзерб, – на эшафоте…
– Ну, слава тебе, Господи, – смеясь, воскликнул Руше, – господин Казот, по-видимому, более всего зол на Академию, а так как я, слава Богу, не…
– Вы? Вы кончите свою жизнь на эшафоте.
– Да что же это такое, в самом деле? Что за шутки такие! Не иначе, как он поклялся истребить нас всех до одного!..
– Нет, вовсе не я поклялся в этом…
– Что же это, мы окажемся вдруг под владычеством турок или варваров или…
– Нет. Ведь я уже сказал: то будет владычество разума. И люди, которые поступят с вами так, будут философы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы здесь вот уже добрый час. И они будут повторять те же мысли, они, как и вы, будут приводить стихи из «Девственницы» и Дидро…
Шамфор наклонился к моему уху:
– Вы же видите, мадам, он просто сумасшедший.
– Да нет, – отвечала я громко, натянуто улыбаясь, – господин Казот просто шутит. В шутках есть доля загадки, вот и все.
– Так-то оно так, – сказал Шамфор, – но его загадки на сей раз что-то не очень забавны. Больно уж они попахивают виселицей. Ну, и когда же это будет, по-вашему?
Казот вздохнул:
– Не пройдет и пяти лет, и все, что я сказал, свершится.
– Да уж, чудеса, нечего сказать, – произнесла я. – Ну а мне, господин Казот, вы ничего не предскажете? Какое чудо произойдет со мной?
– С вами? С вами, принцесса, действительно произойдет чудо. Вы останетесь живы и выйдете замуж за буржуа.
В ответ раздались громкие восклицания.
– Ну, господа, – воскликнула я, – будьте теперь спокойны. Если вам суждено погибнуть после того, как я, принцесса д'Энен снизойду до брака с буржуа, вы можете считать себя бессмертными.
– Мы, – сказала герцогиня де Граммон, – мы, женщины, счастливее вас, к революции мы непричастны, это не наше дело; то есть немножко, конечно, и мы причастны, но только я хочу сказать, что так уж повелось, мы ведь ни за что не отвечаем, потому что наш пол…
– Ваш пол, мадам, не сможет на этот раз служить вам защитой. И как бы мало ни были вы причастны ко всему этому, вас постигнет та же участь, что и мужчин…
– Да послушайте, господин Казот, – воскликнула я, – что это вы такое проповедуете, конец света, что ли?
– Этого я не знаю. Знаю одно: герцогиню де Граммон со связанными за спиной руками повезут на эшафот в простой тюремной повозке, так же как и других дам вашего круга.
– Ну уж, надеюсь, – сказала герцогиня, – ради такого торжественного случая у меня будет карета, обитая черным в знак траура…
– Нет, мадам, и более высокопоставленные дамы поедут в простой тюремной повозке, с руками, связанными за спиной…
– Более высокопоставленные? Уж не принцессы ли крови?
– И еще более высокопоставленные…
Это было уже слишком. Среди гостей произошло замешательство, и я, уловив, что честь королевы задета, помрачнела. Желая рассеять тягостное впечатление, я перебила герцогиню, готовую продолжать расспросы, и шутливо заметила:
– Того и гляди, вы не оставите герцогине даже духовника…
– Вы правы, мадам, у нее не будет духовника, так же как и у других. Последний казненный, которому в виде величайшей милости даровано будет право исповеди…
Он остановился.
– Ну же, договаривайте, кто же этот счастливый смертный, который будет пользоваться подобной прерогативой?
– И она будет последней в его жизни. Я говорю о короле Франции.
Я резко встала, полагая, что пора положить этому конец, за мной поднялись с мест все остальные.
Я подошла к Казоту и взволнованно сказала ему:
– Дорогой господин Казот, довольно, прошу вас! Вы слишком далеко зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в весьма неприятное положение и общество, в котором находитесь, и самого себя.
Казот ничего не ответил и, в свою очередь, поднялся, чтобы уйти, когда его остановила госпожа де Граммон, которой, как ей было это свойственно, хотелось обратить все в шутку и вернуть гостям хорошее настроение.
– Господин пророк, – сказала она, – вы тут нам всем предсказывали будущее, что ж вы ничего не сказали о самом себе?
Некоторое время он молчал, потупив глаза.
– Мадам, – произнес он наконец, – приходилось ли вам когда-нибудь читать описание осады Иерусалима у Иосифа Флавия?
– Кто же этого не читал?
– Так вот, во время этой осады, мадам, свидетельствует Иосиф Флавий, на крепостной стене города шесть дней подряд появлялся некий человек, который, медленно обходя стену, возглашал громким, протяжным и скорбным голосом: «Горе Сиону! Горе Сиону!» «Горе и мне!» – возгласил он на седьмой день, и в ту же минуту тяжелый камень, пущенный из вражеской катапульты, настиг его и убил наповал.
Сказав это, Казот учтиво поклонился и вышел из гостиной.[20]
Я прочла всего лишь несколько страниц нового романа Маккензи «Жюли де Рубинау» и захлопнула книгу. Читать здесь было совершенно невозможно. Вокруг меня, на лужайке, окаймляющей голубые разливы Маленькой Венеции, непрерывно разговаривали придворные завсегдатаи – рассказывали анекдоты, смеялись, острили, сплетничали. Во Франции царило возбуждение: здесь, в маленьком кругу аристократов, как всегда, настроение было легкомысленным и веселым. Ну, может быть, всего лишь с маленькой долей горечи…
– Политика, сплошная политика! – посетовала принцесса де Роган. – Мужчины разучились говорить обо всем, кроме этого.
– Верно, – подхватила я, – из-за этого весь весенний сезон был неимоверно скучным.
Сейчас было 6 мая 1789 года, и невиданная зима давно кончилась, как кончается все на свете. Правда, только к концу февраля лед на Сене тронулся. К концу марта растаял весь снег. А потом зазеленели первые листья. Нынче, в мае, было уже почти жарко.
Весной начались выборы в Генеральные штаты. Женщины в выборах не участвовали, но это не значит, что они жили в неведении; всюду – в галереях, на балах, приемах и за карточными столами, говорили только о Генеральных штатах.
Странная, таинственная и неведомая прежде сила под названием Tiers état – третье сословие – всплыла на поверхность. Первое сословие представлялось духовенством, второе – дворянством, а вместе их было избрано в Генеральные штаты 600 человек. Что касается буржуа, то они добились для себя двойного представительства и теперь одни составляли 600 депутатов.
Под знаменем Tiers état объединялись и солидаризировались марсельский банкир и парижский нищий, тулонский судостроитель и бретонский крестьянин, прокурор парламента и добропорядочный булочник. Конечно, это была только видимая солидарность и цели у них были различны. Но все они именовались одинаково – буржуа. И всех их объединяло одно – политическое бесправие. Они хотели прав, гражданского равенства и крупных реформ, которые позволили бы им развернуться и конкурировать с Англией, производя товары и ведя торговлю.
Но как далеки были аристократы, часто не знавшие даже, сколько ливров в луидоре, от этих интересов!
А на улицах Парижа…
На улицах Парижа самой популярной была песня какого-то Марешаля о третьем сословии:
Хоть наш удел – повиновенье,

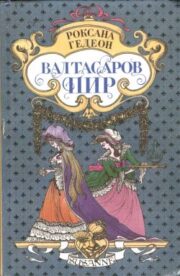
"Валтасаров пир" отзывы
Отзывы читателей о книге "Валтасаров пир". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Валтасаров пир" друзьям в соцсетях.