Так прошла неделя. Валентине стало заметно лучше, к ней вернулась память, и благодетельные слезы хлынули из глаз, но так как никто не дознался у нее истинной причины недуга, родные решили, что разум ее еще не прояснился. Одна лишь кормилица подстерегала благоприятную минуту, чтобы поговорить с Валентиной, но господин де Лансак, собравшийся назавтра покинуть замок, счел своим долгом безвыходно сидеть в покоях жены.
Недавно господин де Лансак получил назначение на пост первого секретаря посольства (до последнего времени он был лишь вторым секретарем) одновременно с приказом срочно прибыть в распоряжение своего начальника и выехать, с супругой или без оной, в Россию.
В истинные намерения господина де Лансака отнюдь не входило увезти свою супругу в чужеземные страны. Еще в те времена, когда Валентина была околдована им, она спросила как-то жениха, возьмет ли он ее с собой в посольство; и, желая, удержаться на пьедестале, на который вознесла его невеста, он ответил, что самое заветное его желание — это никогда не разлучаться с ней. Но граф дал себе слово хитростью, а в случае надобности, так и силою супружеского авторитета, оградить свою кочевую жизнь от домашних хлопот. Эти обстоятельства — болезнь, которая, по словам врача, уже не была угрожающей, но могла затянуться надолго, необходимость немедленно уехать — как нельзя больше отвечали интересам и склонностям господина де Лансака. Хотя госпожа де Рембо была особой на редкость ловкой во всем, что касалось денежных дел, зять, намного превосходящий тещу в ловкости, без труда обвел ее вокруг пальца. После долгих споров, мерзких по существу и изысканно вежливых по форме, контракт был составлен в пользу господина де Лансака. Он сумел дать самое широкое толкование весьма гибкому закону, стал полным хозяином состояния жены и убедил «договаривающуюся сторону» дать его кредиторам нешуточные надежды на земли Рембо. Эти не слишком бросающиеся в глаза особенности его поведения чуть было не расстроили свадьбу, но господин де Лансак, потакая тщеславным притязаниям графини, сумел подавить ее своим авторитетом еще успешнее, чем раньше. Что касается Валентины, то она, не разбираясь в делах и чувствуя непреодолимое отвращение к подобного рода спорам, подписала, так ничего и не поняв, все, что от нее требовали.
Убедившись, что долги, так сказать, уже уплачены, господин де Лансак уехал, не слишком сожалея о жене, и, потирая руки, хвалил себя в душе за то, что так ловко провел столь деликатное и выгодное дело. Приказ об отъезде пришелся как нельзя более кстати и избавил господина де Лансака от трудной роли, которую ему пришлось с первого же дня свадьбы играть в доме Рембо. Смутно догадываясь, что горе и самый недуг Валентины вызваны, быть может, тем, что ей пришлось подавить свою склонность к другому, и, во всяком случае, чувствуя себя оскорбленным до глубины души ее отношением к себе, граф тем не менее не имел пока что никаких оснований высказывать свою досаду. На глазах матери и бабушки, которые нашли прекрасный случай публично продемонстрировать свою тревогу и свою нежность к Валентине, он не осмеливался показать снедавшую его скуку и нетерпение. Таким образом, положение его было до крайности мучительным, тогда как отъезд на неопределенный срок избавлял его сверх того от неприятностей, неизбежно связанных с вынужденной продажей земель Рембо, так как главный его кредитор категорически требовал уплаты долга, выражавшегося в сумме примерно пятисот тысяч франков; и в ближайшее время этому прекрасному поместью, которое с таким тщеславным старанием округляла мадам Рембо, суждено было, к великому ее неудовольствию, быть раздробленным на жалкие наделы.
В то же самое время господин де Лансак избавлялся от слез и капризов своей молодой супруги.
«В мое отсутствие, — думал он, — она свыкнется с мыслью, что свобода ее потеряна. При ее безмятежном нраве, при ее склонности к уединению, она скоро привыкнет к спокойной и скромной жизни, какую я ей уготовал, а если некая романтическая любовь смущает покой ее души, ну что ж, у нее будет достаточно времени, чтобы исцелиться от нее до моего возвращения, если только все эти бредни не наскучат ей еще раньше».
Господин де Лансак был человеком без предрассудков, в чьих глазах любое чувство, любой довод, любое убеждение определяются могущественным словом, которое правит миром: словом «деньги».
У госпожи де Рембо были другие поместья в других провинциях и повсюду тяжбы. Тяжбы, можно сказать, заполняли жизнь графини; правда, она уверяла, что судебные разбирательства подрывают ее здоровье, что все эти хлопоты ее утомляют, но, не будь их, она умерла бы от скуки. С тех пор как графиня утратила былое величие, тяжбы стали единственной пищей ее деятельности и страсти к интригам; в них и изливала она всю свою желчь, накопившуюся за годы, с тех пор как ее положение в высшем свете пошатнулось. Сейчас в Солони она затеяла весьма важный процесс против жителей одного поселка, оспаривавших у графини большую пустошь, поросшую вереском. Слушание дела было уже назначено, и графине не терпелось укатить в Солонь, чтобы подстегнуть своего адвоката, повлиять на судей, пригрозить противной стороне, словом, отдаться той лихорадочной деятельности, которая, словно червь, подтачивает души, с юности вскормленные тщеславием. Не будь болезни Валентины, она умчалась бы в Солонь на следующий же день после свадьбы, чтобы заняться этим процессом; теперь, видя, что дочь вне опасности, и зная, что дела задержат ее ненадолго, она условилась уехать вместе с зятем, направлявшимся в Париж, и, распрощавшись с ним на полдороге, поспешила туда, где разбиралась ее жалоба.
Валентина на несколько дней осталась одна вместе с бабушкой и нянькой в замке Рембо.
25
Как-то ночью Бенедикт, которого непрерывно мучили жесточайшие боли, не позволявшие ни на чем сосредоточиться, очнулся и, чувствуя себя более спокойным, попытался вызвать в памяти все случившееся. Голова его была забинтована, и даже половину лица захватывала повязка, почти не давая доступа воздуху. Он сделал движение, стараясь устранить эту помеху и вернуть себе способность видеть, что обычно опережает у нас даже потребность мыслить. И тут же чьи-то руки, легко коснувшиеся его лба, откололи булавки, ослабили повязку, чтобы помочь больному. Бенедикт увидел склоненную над ним бледную женщину и при мерцающем свете ночника различил благородный, чистый профиль, отдаленно напоминавший профиль Валентины. Ему почудилось, будто все это привиделось ему, и рука его невольно потянулась к руке призрака. Но призрак перехватил его руку и поднес к своим губам.
— Кто вы? — проговорил, вздрогнув, Бенедикт.
— И вы еще спрашиваете? — ответил голос Луизы.
Добрая Луиза бросила все и примчалась выхаживать своего друга. Она не отходила от больного ни днем ни ночью, неохотно уступала свой пост тетушке Лери, приходившей по утрам ее сменять, самоотверженно выполняла печальный долг сиделки при умирающем, зная, что надежды на спасение почти нет. Однако благодаря самоотверженному уходу Луизы и собственной молодости Бенедикт избег почти неминуемой смерти и однажды нашел в себе достаточно силы не только поблагодарить Луизу, но и упрекнуть ее за то, что она спасла ему жизнь.
— Друг мой, — сказала Луиза, испуганная этой душевной подавленностью, — если я, по вашим словам, с такой жестокостью постаралась вернуть вас к жизни, которую не способна скрасить моя любовь, то сделала это из преданности Валентине.
Бенедикт затрепетал.
— Сделала для того, — продолжала Луиза, — чтобы сохранить ее жизнь, которая, так же как и ваша, находится под угрозой.
— Под угрозой? Но почему? — воскликнул Бенедикт.
— Узнав о вашем безумном поступке, о вашем преступлении, Валентина, без сомнения питающая к вам самую нежную дружбу, внезапно заболела. Луч надежды, возможно, мог бы еще спасти ее, но она не знает, что вы живы.
— Так пусть же никогда и не узнает! — воскликнул Бенедикт. — Коль скоро зло свершилось, коль скоро удар нанесен, дайте же ей умереть вместе со мной.
С этими словами Бенедикт сорвал повязку, и рана вновь открылась бы, не будь здесь Луизы, которая мужественно боролась за жизнь раненого, спасая его от самого себя; потом, обессилев, она упала на стул, сраженная душевной болью.
В другой раз Бенедикт, казалось, вышел из состояния глубокой летаргии и, схватив руку Луизы, проговорил:
— Почему вы здесь? Ваша сестра умирает, и вы ухаживаете за мной, а не за ней!
Не совладав со страстью, забыв все на свете, Луиза восторженно воскликнула:
— А если я люблю вас больше, чем Валентину?!
— В таком случае вы прокляты, — ответил Бенедикт, с помутившимся взором отталкивая ее руку, — вы предпочитаете хаос свету, демона архангелу. Вы сумасшедшая! Уходите прочь! Я и без того несчастлив, не надрывайте же мне душу своими горестями.
Ошеломленная Луиза уткнулась лицом в занавеску и плотно закутала ее краем себе голову, чтобы заглушить рыдания; Бенедикт тоже плакал, и слезы успокоили его.
Через минуту он позвал Луизу.
— По-моему, я резко говорил с вами сейчас, — сказал он, — но следует простить бред, вызванный лихорадкой.
Вместо ответа Луиза только поцеловала протянутую к ней руку Бенедикта. А ему пришлось собрать остаток всех своих душевных сил, чтобы без раздражения вынести это свидетельство любви и покорности. Объясняйте эту странность как можете, — присутствие Луизы не только не утешало Бенедикта, но, напротив, было ему неприятно, заботы ее раздражали больного. Признательность боролась в его душе с нетерпением и досадой. Принимать от Луизы все эти услуги, все эти знаки преданности было равносильно упреку, равносильно горькому осуждению той любви, что он питал к другой. Чем пагубнее была для него эта страсть, тем оскорбительнее казались ему любые попытки отговорить его от этого чувства; с гордостью отчаяния цеплялся он за свою любовь. И если в минуты счастья душа его была способна вместить симпатию и сочувствие к Луизе, то в горе он утратил это свойство. Он считал, что его собственное горе достаточно тяжело, и если любовь Луизы как бы взывала к его великодушию, то это казалось ему эгоистичным и притом неуместным требованием. Возможно, такая несправедливость была непростительна, но разве во всех обстоятельствах у человека хватает силы преодолеть свои беды? Таково утешение, обещанное Евангелием, но чьи руки будут держать весы, кто будет судьей? Разве господь бог раскрывает нам свои предначертания? Разве измеряет он чашу, которую мы испили до дна?

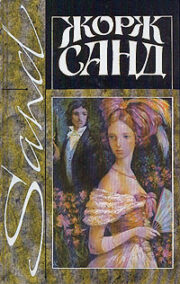
"Валентина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Валентина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Валентина" друзьям в соцсетях.