Но Пьер Блютти на этом не остановился. Он решил нанести Бенедикту смертельное оскорбление, устроить сцену, чтобы впредь тому было неповадно появляться на ферме, и поэтому как бы вскользь заметил, что для одного из гостей счастье господина де Лансака хуже ножа острого. Все взоры удивленно обратились к нему, и тут присутствующие заметили, что Пьер указывает глазами на Бенедикта. Тогда все эти многочисленные Симонно и Море подхватили брошенный им мяч на лету и обрушились скорее грубо, нежели язвительно на своего неприятеля. Но Бенедикт продолжал сидеть с невозмутимым видом, он только укоризненно посмотрел на бедняжку Атенаис, так как лишь она одна могла выдать его тайну. Молодая женщина в отчаянии пыталась перевести разговор на другой предмет, но безуспешно, и она сидела ни жива ни мертва, надеясь, что ее присутствие удержит мужа от крайностей.
— Есть тут такие, — начал Жорж, с умыслом коверкая свою речь на крестьянский лад, как бы желая подчеркнуть городские манеры Бенедикта, — есть тут такие, что стараются прыгнуть выше головы и, понятно, расшибают себе нос. Помнится мне история Жана Лори: ни брюнеток он не любил, ни блондинок, а в конце концов, как каждому известно, обрадовался, что хоть на рыжей удалось жениться.
Разговор шел в том же тоне, и, как видит читатель, он не отличался остроумием. Блютти поддержал своего приятеля Жоржа.
— Да не так все это было, — сказал он, — сейчас я расскажу историю Жана Лори. Он божился, что может полюбить только блондинку, но и брюнетки и блондинки его сторонились, вот рыжая и взяла его из жалости.
— Значит, у женщин глаз верный, — подхватил второй собеседник.
— Зато, — добавил третий, — есть мужчины, которые не видят дальше собственного носа.
— «Manes habunt» 2, — вставил шевалье де Триго, не понявший всех этих намеков, но решивший блеснуть своей ученостью.
И он докончил цитату, безбожно калеча латынь.
— Господин шевалье, — заметил дядюшка Лери, — зря вы мечете бисер перед свиньями, мы по-гречески не разумеем.
— Зато господин Бенуа может нам перевести, он ведь только этому и обучен, — заметил Блютти.
— Это означает, — ответил Бенедикт с невозмутимо спокойным видом, — что есть люди, подобные скотам, у которых глаза существуют для того, чтобы не видеть, а уши — чтобы не слышать. Как видите, это вполне соответствует тому, что вы сейчас говорили.
— Черт с ними, с ушами! — заметил плотный коротышка, до сих пор не вступавший в разговор, — один из родичей новобрачного. — Мы ничего такого не говорили, мы, слава тебе господи, знаем толк в дружеском обхождении.
— К тому же, — добавил Блютти, — как гласит пословица, тот, кто не желает слушать, хуже глухого.
— Нет, хуже глухого тот, — громко возразил Бенедикт, — у кого презрение заложило уши.
— Презрение! — воскликнул Блютти и вскочил с места, весь побагровев и сверкая глазами. — Презрение!
— Да, презрение, — ответил Бенедикт, не меняя позы и даже не удостоив противника взглядом.
Он не успел договорить фразы, как Блютти, схватив стакан с вином, запустил его в голову Бенедикта, но рука, дрогнувшая от ярости, подвела Блютти, вино расплескалось, роскошное платье новобрачной покрыли несмываемые пятна, а стакан неминуемо ранил бы ее, если бы Бенедикт, проявив не меньше хладнокровия, чем ловкости, не поймал его на лету, причем без всякого для себя ущерба.
Перепуганная Атенаис выскочила из-за стола и бросилась на грудь матери. А Бенедикт ограничился тем, что, посмотрев на Блютти, произнес с великолепным спокойствием:
— Не будь меня, ваша супруга могла бы лишиться своей красоты.
Он поднял с земли камень и, поставив стакан посреди стола, с силой ударил по нему. Когда стакан разлетелся, он раздробил стекло на мелкие кусочки, потом разбросал их по столу.
— Господа, — начал он, — кузены, родичи и друзья Пьера Блютти, и вы, Пьер Блютти, который только что нанес мне оскорбление и которого я презираю от всей души, каждому из вас преподношу я по кусочку стекла от разбитого стакана. Пусть каждый такой кусочек станет свидетелем моей правоты; это также осколки оскорбления, которое я приказываю вам загладить.
— Мы не деремся ни на шпагах, ни на саблях, ни на пистолетах, — загремел Блютти, — мы не щеголи, не фрачники, как ты. Нас храбрости не обучали, она у нас с рождения в сердце и в кулаках. Скидай свой фрак, сударь, посмотрим, чья возьмет.
И Блютти, скрежеща от ярости зубами, стащил с себя сюртук, убранный цветами и лентами, и до локтей засучил рукава сорочки. Атенаис, упавшая в объятия матери, бросилась вперед и встала между мужчинами, пронзительно крича. Блютти не без основания приписал ее волнение тревоге за Бенедикта, что лишь усугубило его ярость. Оттолкнув жену, он бросился на врага.
Бенедикт был явно слабее, но зато увертливее и хладнокровнее; он подставил Пьеру подножку, и тот покатился по траве.
Не успел он подняться, как его дружки тучей налетели на Бенедикта. Но тот успел выхватить из кармана пистолеты и навел на нападающих два дула.
— Господа! — сказал он. — Вас двадцать против одного. Стало быть, вы трусы! Если вы шевельнетесь, четверо из вас будут убиты как собаки.
При виде пистолетов пыл нападающих несколько поостыл. Тут дядюшка Лери, знавший непреклонный нрав Бенедикта и не зря опасавшийся кровавой развязки, встал перед ним и замахнулся своей суковатой палкой на нападавших, показывая им свои седины, забрызганные вином, которое Блютти хотел выплеснуть в лицо Бенедикта. Слезы ярости катились по лицу старика.
— Пьер Блютти! — крикнул он. — Вы вели себя сейчас самым гнусным образом. Если вы надеетесь с помощью таких вот поступков стать хозяином в моем доме и изгнать оттуда моего племянника, то вы глубоко ошибаетесь. Я еще волен закрыть перед вами двери и оставить при себе дочку. Брак еще не совершен, иди ко мне, Атенаис.
С силой схватив дочь за руку, старик привлек ее к себе. Предупреждая его желание, Атенаис воскликнула с ненавистью и ужасом:
— Оставьте меня у себя, батюшка, оставьте меня навсегда. Защитите меня от этого сумасшедшего, который оскорбляет вас, всю нашу семью! Нет, ни за что я не стану его женой! Не хочу я покидать родительский кров!
И она судорожно уцепилась за шею отца.
Пьер Блютти, за которым по закону еще не было закреплено приданое, обещанное тестем, был сражен силою его доводов. Он подавил досаду, вызванную поведением жены, и заговорил тоном ниже:
— Признаюсь, я погорячился. Примите мои извинения, тесть, ежели я вас оскорбил.
— Да, сударь, оскорбили, — подхватил Лери, — вы оскорбили меня в лице моей дочери, чей свадебный наряд еще носит следы вашей грубости, вы оскорбили меня в лице моего племянника, и я сумею заставить вас уважать его. Если вы хотите, чтобы ваш тесть и ваша жена простили ваше недостойное поведение, протяните скорее руку Бенедикту — и пусть все будет забыто.
Вокруг них собралась огромная толпа, и зрители с любопытством ждали конца этой сцены. Во всех устремленных на Блютти взглядах как бы читался совет не сдаваться, но хоть Пьер и не был лишен некоей животной отваги, он превыше всего блюл свои интересы, и притом так хорошо, как умеет блюсти их любой сельский житель. Кроме того, он был по-настоящему влюблен в свою супругу, и угроза старика Лери не отдать ему Атенаис испугала Пьера не меньше, чем перспектива лишиться богатого приданого. Он послушался совета благоразумия, пересилил ложное тщеславие и после мгновенного колебания произнес:
— Что ж, повинуюсь, тесть, но, признаюсь, мне это недешево стоит, и, надеюсь, вы, Атенаис, оцените, на что я пошел, лишь бы быть с вами.
— Никогда вы не будете со мной, что бы вы ни делали! — воскликнула молодая фермерша, только что заметившая многочисленные брызги, покрывавшие ее подвенечное платье.
— Дочь моя, — с достоинством прервал ее Лери, который в случае надобности умел прибегать к отцовскому авторитету, — в вашем положении для вас превыше всего должна быть отцовская воля. Приказываю вам подать руку вашему супругу и примирить его с Бенедиктом.
С этими словами Лери обернулся к племяннику, который во время всех этих пререканий разрядил пистолеты и спрятал их в карман; но, вместо того чтобы послушаться доброго совета дяди, он отступил на шаг и не пожал руки, которую скрепя сердце протянул ему Пьер Блютти.
— Ни за что, дядюшка! — ответил он. — Мне больно, что я не могу отплатить повиновением за ваше доброе ко мне отношение, но не в моей власти простить эту обиду. Все, что я могу сделать, это забыть ее.
С этими словами Бенедикт повернулся и пошел прочь, властно раздвигая по пути ошеломленных этой сценой зевак.
22
Бенедикт углубился в парк Рембо и, бросившись в темном уголку на мох, предался самым грустным размышлениям. Только что он порвал последнюю нить, еще связывавшую его с жизнью, ибо он понимал, что после ссоры с Пьером Блютти, уже невозможно поддерживать добрые отношения и с семьей дяди. Никогда больше он не увидит этих мест, где провел столько счастливых минут и где все еще полно Валентиной, а если случайно он и заглянет туда, то лишь как чужой человек, которому уже не пристало искать там воспоминания, столь сладостные некогда и столь горькие сейчас. Ему чудилось, будто долгие годы несчастья уже отделяют его от этих совсем еще близких дней, и он упрекал себя за то, что не сумел полностью ими насладиться; с раскаянием вспоминал он свои гневные вспышки, которые не умел подавить, оплакивал злосчастную природу человека, умеющего оценить свое счастье, лишь потеряв его.
Отныне Бенедикта ждало ужасное существование: окруженный врагами, он будет посмешищем для всей округи, каждый день до его слуха будут доноситься дерзкие и жестокие насмешки, и он не сможет ответить на них, так как оскорбитель слишком низок для этого; каждый день станет воспоминанием о печальной развязке его любви, и надо будет свыкнуться с мыслью, что нет больше никакой надежды.

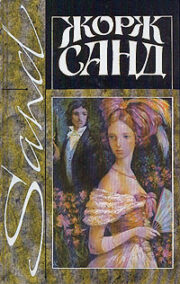
"Валентина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Валентина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Валентина" друзьям в соцсетях.