Женщина уже стояла на асфальте, одергивая платье и пытаясь удержаться на ногах в одной туфле – вторую она потеряла. Она плакала. Я сжал кастеты крепче, и ручки впились мне в ладони. Мужчина начал вылезать из автомобиля с презрительной усмешкой на лице. Он не сомневался, что легко со мной расправится, но потом заметил черные пластины кастетов у меня на руках, и его усмешка стала менее самоуверенной: он не знал, повлияют они на что-то или нет.
А в следующее мгновение Фэррен оказался рядом – с неожиданной силой обхватил меня обеими руками, и я почувствовал исходящий от него запах денег.
– Не делайте глупостей! – настойчиво зашипел он, почти касаясь ртом моего уха. – Вы их не знаете. Они ничего для вас не значат. Подумайте лучше о своей семье.
Я попытался вырваться, но Фэррен держал меня крепко.
– Послушайте меня, Том. Вы нужны жене и детям. Кто для вас эти люди? Никто. Нельзя же беспокоиться о каждом встречном!
Фэррен был прав.
Прав во всем.
Я почувствовал, что желание драться улетучилось, и обмяк. Фэррен осторожно снял у меня с рук кастеты, обнял за плечи, словно боялся, как бы я не передумал, и повел обратно к лимузину. По пути он быстро наклонился и выбросил кастеты в водосток. Я уронил голову на грудь, и Фэррен потрепал меня по плечу.
– Все хорошо, – сказал он.
Дойдя до лимузина, я оглянулся. Женщина вытирала пальцами нос. Она успела найти и надеть вторую туфлю. Мужчина обошел автомобиль и смотрел на меня с наглой усмешкой. Уверенность к нему вернулась.
– Что, сморчок, передумал? – ухмыльнулся он.
Вот именно. Сморчок передумал.
Мы сели в машину, и Фэррен наклонился ко мне:
– Вы хороший человек, Том. А теперь давайте просто уедем.
Я не решился раскрыть рот – только кивнул и повез Фэррена в отель, с трудом различая дорогу сквозь пелену слез. Он положил руку мне на плечо, словно хотел убедиться, действительно ли я здесь, и я почувствовал, что лицо у меня горит от стыда.
13
Следующим вечером я отвез Фэррена на другой берег Темзы. От реки мы направились дальше на юг и вскоре углубились в неведомую пучину города. И всю дорогу эти пронзительные голубые глаза на загорелом лице пристально смотрели на меня в зеркале заднего вида.
Теперь он знал, кто я такой. Знал, что я сделал, но ни о чем не расспрашивал. Потому что понимал.
Чем дальше мы ехали на юг, тем заметнее становилось безденежье. Фэррен смотрел в окно на безрадостный городской пейзаж: магазины с заколоченными окнами, однообразные уродливые многоэтажки, кучки одетых в куртки с капюшонами подростков на горных велосипедах.
– Когда-то это была великая страна, – сказал он. – Из каждого закоулка каждого города вела наверх лестница. А потом эту лестницу опрокинули.
Была уже ночь. Весь день мы провели, колеся по Лондону и окрестностям. Большинство клиентов «ВИП-моторс» не покидали границ хорошо знакомого им участка от Кэнэри-Уорф на востоке до Челси на западе, центр которого находился в Сити. Здесь проходила вся их жизнь. Здесь они заключали сделки, преломляли хлеб, склоняли на подушку свои усталые, не знающие отдыха головы.
Фэррен был не таким, как другие.
Он не ограничивался привычными маршрутами. Я возил его и в Мидлсекс – в огромный дом с посыпанной гравием подъездной дорожкой, и в Эссекс – в коттедж с бассейном олимпийского размера, и в Саррей – за ворота охраняемого жилого комплекса. Пока я ждал его в этом самом комплексе, я заметил на заднем сиденье глянцевую брошюру. На обложке было безмятежное синее море с кокосовой пальмой на переднем плане. Сверху шла надпись: «Дикая пальма», а ниже, крупными буквами: «ТАИЛАНД, ОСТРОВ ПХУКЕТ. ВАША ДВЕРЬ В РАЙ». Я как раз собирался положить брошюру на место, когда вышел Фэррен.
– Оставьте себе, – сказал он.
Теперь мы углублялись все дальше в южную часть Лондона, и хотя женский голос GPS-навигатора мягко, но настойчиво велел мне ехать дальше, меня не покидало чувство, что здесь какая-то ошибка – в этом районе города денег не было.
«Вы приехали», – объявил навигатор. Машина остановилась рядом с поросшим чахлой травой газоном на краю темного леса многоэтажных домов. С тротуара на нас пялились пустыми блестящими глазами какие-то люди. Я посмотрел на Фэррена в зеркало, ожидая указаний, и он встретился со мной взглядом.
– Давайте просто немного посидим в машине, – произнес он.
На бетонной лестнице, ведущей на верхние этажи многоэтажки, сидела группа подростков. Подростки ухмылялись и плевали на землю: им хотелось что-нибудь с нами сделать, но они не знали что. Я посмотрел на Фэррена, и внезапно меня охватило восхищение: он не испугался. Он вообще их не замечал.
– Что? – спросил Фэррен.
– Просто подумал – странно видеть вас в таком месте.
Он рассмеялся:
– По-моему, англичанин повсюду как дома. Вы так не думаете?
Внезапно Фэррен встрепенулся.
Какой-то старик с редеющими седыми волосами брел по улице с полиэтиленовым пакетом в руках. Он направлялся к лестнице ближайшей многоэтажки. Подростки на ступеньках продолжали курить и плеваться и даже не подумали его пропустить. Не поднимая глаз, старик пробирался между ними, медленно и осторожно, словно боясь потревожить стаю диких зверей. Он молчал и даже не смотрел на них, но всем своим видом извинялся за то, что существует на свете.
– Кто это, по-вашему? – спросил Фэррен.
Я пожал плечами:
– Какой-то бедный старикашка, который возвращается из магазина с банкой кошачьего корма и боится получить ножом под ребро. Наверняка участвовал в войнах и гнул спину на заводах – все ради того, чтобы в старости кучка прыщавых засранцев мочилась на его порог. Просто прелесть.
Фэррен смотрел, как старик поднимается по ступенькам, пока тот не скрылся из виду. Вскоре в квартире на третьем этаже, в конце открытого всем ветрам перехода, зажглось одинокое окно.
– Я расскажу вам об этом старике, – заговорил он. – Его бросила жена. Много лет назад. Десятки лет назад. Полжизни тому назад. С ним остался четырехлетний сын – она бросила их обоих. Отец с ним не справлялся, и его стали перекидывать из одной семьи в другую. Сначала мальчика отдали бабушке с дедушкой. Там ему жилось хорошо. Ваши бабушка с дедушкой тоже вас любят, верно? Но они были уже старые. Они заболели и умерли. Сначала он – мужчины обычно умирают первыми, потом и она. Тогда мальчика отправили к другим родственникам. Потом к приемным родителям. – Фэррен ненадолго умолк. – И в каждой новой семье он встречал все больше равнодушия и жестокости.
Я подумал о Тесс, о неведомых ужасах, с которыми сталкивается в чужой семье ребенок, и о родителях, которые рожают детей, а потом бросают их на произвол судьбы, но ничего не сказал.
Фэррен сидел, подавшись вперед, словно хотел убедиться, что я действительно слушаю. Я повернулся к нему – взгляда в зеркале мне было уже недостаточно.
– А все из-за того, что его отец не смог перенести одного удара судьбы, – продолжил Фэррен. – Что вы об этом думаете, Том? Что думаете о людях, которые бросают собственных детей?
– Ничего хорошего, – ответил я.
Фэррен удовлетворенно кивнул. Я завел машину, и несколько лиц повернулось в нашу сторону. Его голубые глаза пристально смотрели на меня в зеркале.
– Знаете, кто этот старик? – спросил Фэррен. – Этот разочаровавшийся в жизни старик?
Я догадывался. Прошло слишком много лет, чтобы что-то исправить. Возможно, они пытались наладить отношения, но все закончилось ссорой. Горькие слова, резкий тон, затаенные обиды выплескиваются наружу. Мои родители давно умерли, однако я знал, как это бывает между отцами и сыновьями, между родителями и детьми. Знал, что можно потерять друг друга и никогда не найти.
Фэррен ждал ответа.
– Это ваш отец? – спросил я.
Фэррен улыбнулся:
– Нет, это вы, Том. Вы через тридцать лет. Именно такое будущее ждет вас здесь – в стране, где больше нет лестницы наверх. Но вы достойны лучшей судьбы. И ваша семья тоже. Сами знаете.
Потом он заснул. Фэррен так и не перестроился на местное время. Полагаю, он и не пытался. Это пробудило бы слишком много воспоминаний: маленькая квартирка, мать, которая его бросила, отец-неудачник. Поэтому Фэррен жил по тайскому времени и спал, когда удавалось урвать свободную минутку. Он словно бы находился вне часовых поясов: еще не там, но уже не здесь.
Я чувствовал себя примерно так же: разрывался между жизнью в этом городе, зная, что потеряю работу, если получу судимость, и безумной верой в то, что еще можно вырваться на свободу – главное, очень захотеть.
– Пора, – сказал Рори.
Мы с Тесс вышли через разбитые стеклянные двери в сад. Дети нас ждали. У Кивы в руках была коробка из-под обуви, Рори держал в ладонях маленький безжизненный комочек шерсти.
Кива торжественно протянула мне коробку. Я открыл ее, и Рори бережно положил на дно мертвого зверька – крохотный, обтянутый коричневым мехом скелетик, который казался еще меньше теперь, когда искра жизни в нем угасла.
– Это все лиса, да? – проговорил Рори, печально кивая головой. – Она его напугала, и он…
Я не закрывал крышку, чтобы сын мог попрощаться со своим любимцем. Мы оба смотрели на мертвого зверька.
– Они живут недолго, – мягко сказал я.
Хэмми был не первым животным, которое мы хоронили. Сад позади дома давно превратился в кладбище золотых рыбок, волнистых попугайчиков и хомячков.
– Ты же знаешь, что они живут недолго.
Я медленно закрыл крышку, и у Рори задрожал подбородок. На коробке был приклеен листок с тщательно набранной эпитафией:
«Хэмми Финн (2004–2004) – хароший петомец».
– Но все равно дольше, чем он! – с горечью ответил Рори.
Маленькая похоронная процессия направилась в конец сада – туда, где семья Финн предавала домашних животных земле. Кива с головой ушла в свой маленький мир: бормотала что-то себе под нос и выступала осторожными большими шагами, играя в какую-то понятную ей одной игру. Она могла умиляться на наших питомцев до слез, но не любила их так же сильно, как брат. Когда мы проходили мимо игрового домика, Кива скользнула внутрь, чтобы взглянуть на велосипед.

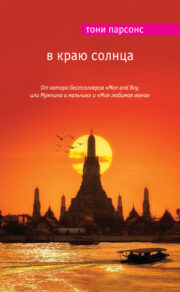
"В краю солнца" отзывы
Отзывы читателей о книге "В краю солнца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В краю солнца" друзьям в соцсетях.