Лучи восходящего солнца озаряли розовую горную гряду и плато, покрытое свежей травой, усеянное дубовыми рощами и дикими оливами. У подножия скалы приютился порт, защищенный дамбой с древним маяком и могучими крепостными стенами, где зияли проломы и различимы были следы от пушечных ядер. Дальше виднелся город с красными венецианскими дворцами и белыми домиками, частично разрушенными. Окрестности города были обезображены рытвинами, возникшими из-за подрыва диковинных бомб, которыми пользовался Морозини, — квадратных стеклянных бутылей с четырьмя фитилями, изрыгающими, разбиваясь, смертоносный ядовитый дым. Повсюду мы видели следы пожарищ, признаки погибели. Однако красный с золотом штандарт Венеции продолжал гордо реять на легком утреннем ветерке, подтверждая решимость осажденных выстоять, невзирая ни на что.
О присутствии турок говорили только дымки их походных кухонь на окружающих город высотах. Однако стоило засиять на солнце нашему золоченому «Монарху» и другим судам эскадры, как все изменилось. Из порта раздались радостные возгласы.
«Мы прибыли первыми, — рассудил Бофор, разглядывая остров в подзорную трубу. — Странно… Вивонн вышел из Марселя на своих быстроходных галерах раньше нас и уже должен был приплыть, как и этот Роспиглиози, отказывающий мне в титуле „высочество“. А ведь он плывет всего-то из Чивитавеккьи. Есть о чем задуматься…»
Тем не менее опоздания союзников было недостаточно, чтобы обескуражить адмирала. Он сел в шлюпку вместе с де Наваем, Кольбером де Молеврие , своим племянником и мной и отплыл на встречу с Франческо Морозини, венецианским командующим. Тот вышел на набережную вместе с Сент-Андре-Монбреном, французским капитаном, состоящим на венецианской службе. Войдя в узкий проход, образованный мысом и дамбой с маяком, мы приблизились к ним. Все это время нас обстреливали турки. На наше счастье, их артиллеристам не хватало меткости.
Не стану от вас скрывать, какое сильное впечатление на меня произвел Морозини, — настоящее воплощение всех высших венецианских добродетелей. Это был воин пятидесяти двух лет, рослый, худой, похожий в своем помятом панцире на видавший виды клинок. Энергичное лицо, обожженное солнцем, с тонкими чертами, густые волосы с седыми прядями, подвижный рот, шелковистые усы, эспаньолка, но главное — запавшие черные глаза, гордые и властные, и недоуменный взлет бровей! Будучи солдатом, моряком, стратегом, он умел проявлять бесконечное терпение, что было составной частью его гениальности… Между ним и нашим адмиралом сразу установилось полное взаимопонимание: они были буквально созданы для совместных побед. К несчастью, этого нельзя было сказать о господине де Навае, а тот, на беду, был главнее монсеньора на суше…
Филипп умолк и улыбнулся матери, не сводившей с него влюбленного взгляда.
— Мне бы не хотелось тебя расстраивать, матушка, ведь я знаю, что госпожа де Навай — твоя давняя приятельница. Однако истину не скроешь, ее муж — грубиян и болван, из-за чванства которого мы потерпели катастрофу!
— Пусть тебя не мучит совесть! Я всегда знала, что она гораздо умнее своего мужа. Вот если бы король вызвал из ссылки одну ее!.. Но продолжай, прошу тебя.
— Охотно повинуюсь. Итак, Навай начал с того, что отказался от предложения Морозини, а тот сулил ему для наступления солдат, давно приспособившихся к этой войне и хорошо знающих местность. Далее он отказался от беседы с господином де Сент-Андре-Монбреном. Пришлось монсеньеру одному отправиться на бастион Сан-Сальваторе и всю ночь разрабатывать с Морозини и капитаном-французом план наступления. Все согласились, что надо дождаться Вивонна, Роспиглиози и их войска, а также трех тысяч немцев, завербованных Венецией. Получился бы увесистый кулак, способный атаковать неприятеля и на суше, и с моря и прорвать осаду, применив артиллерию.
И надо же было Навайю, поднявшись к себе на борт, принять роковое решение, атаковать турок на суше, не дожидаясь подкрепления! Хуже того, он даже не позаботился уведомить о своем решении адмирала, более того, посоветовал ему впоследствии не ступать на остров, так как у него и так громкая репутация и лучше ему не соваться туда, где могут обойтись без него… Представляете, как подействовало на монсеньера это наглое заявление?
— Боже! — простонал Персеваль. — Кольбер и Лувуа совсем спятили, если доверились подобному остолопу!
— Не забывайте, дорогой шевалье, что названные вами министры, как и сам король, не собирались наносить поражение Блистательной Порте и что наша чудесная экспедиция с самого начала была обречена на поражение! Недаром было решено не поручать командование маршалу Тюренну…
— Да, ему-то Бофор подчинился бы без разговоров! Но продолжай, мой мальчик! Хотя я уже подозреваю, что продолжение будет бесславным.
— Да, французское оружие было покрыто позором, но сам монсеньер бился геройски. Атака была назначена на следующее утро, и он заявил, что по примеру своего предка.
Генриха IV первым вступит в бой. Офицеры с кораблей столпились вокруг него и стали отговаривать. Они твердили, что он не обязан подчиняться бездарным приказам, что, хочет Навай потерять Канди или победить турок в одиночку, это его дело, однако для успеха требуется гораздо более длительная подготовка. Он не оспаривал их правоту, но отказался выслушать до конца, а лишь повторял, что должен увлечь воинов собственным примером, иначе они не поднимут головы, многие еще не оправились от морской болезни. Вот еще одна причина, подхватили хором де Лафайет, де Керуалль и де Молеврие, чтобы предоставить им больше времени. Но Навай уперся, а последнее слово, как я уже говорил, оставалось за ним. За свои решения он нес ответственность только перед королем.
Турки не теряли времени даром. Как только появился французский флот, они принялись за нами наблюдать. Немного постреляв по адмиральской шлюпке, они развернули свою стремительную кавалерию. Ахмед Паша, великий визирь султана, самолично командовал осадой Канди. Он был настолько же осмотрителен и мудр, насколько безрассуден и слеп был Навай. Вскоре мы почувствовали это на собственной шкуре.
Последнюю свою ночь на борту монсеньер провел в молитвах, в своей каюте, обтянутой шелком цвета зари. Он уже понял, что означают препятствия, чинимые его замыслам, и ослиное упрямство Навая, во Франции меньше всего желали его возвращения в ореоле победителя, зато весть о его гибели от рук турок у многих вызвала бы вздох облегчения… Уже в три часа утра мы увидели его на палубе — без панциря, в одном камзоле, с черным, как его шляпа и перья, бронзовым крестом на груди. Желая защитить тех, кто был ему особенно дорог, то есть шевалье де Вандома и меня, он приказал нам остаться на борту, но мы возмущенно отказались. Тогда он велел Вандому сражаться подальше от него и тихонько поручил приглядывать за ним двоим телохранителям. Однако меня он обмануть не смог. Я повторил, что решил не отставать от него, как делал уже столько лет. Тогда он предупредил, что опасность очень велика и что я обязан подумать о тебе, матушка, и о своем гордом имени…
— Что ты ему ответил? — спросила Сильви.
— Что ты доверила меня ему, когда я был еще ребенком. Наказывала не покидать его, хотя всегда знала, как это опасно. Потом, именно гордое имя предков накладывает на меня обязанность не сторониться опасности и даже смерти. Наконец, что ты в случае чего все поняла бы…
— Да, — грустно подтвердила герцогиня, — именно так рассуждают мужчины. Но женщины, особенно матери, иногда думают иначе.
— Не говори так! — вскричал Филипп. — Пойми, если бы не мое упорство и не присутствие рядом с ним в бою, мы бы сейчас не знали, что он остался в живых!
— Ты прав! Да простит господь мою неблагодарность! Продолжай свой рассказ, сынок.
— Ночь была ясная, теплая, звездная — настоящая восточная ночь, с какими мы незнакомы, позволяющая забыть об испепеляющем дневном солнце. Мгновение волшебства перед предстоящим кошмаром! Высадившись на остров и начав движение, замедляемое опасностью напороться на турецкие мины, мы обнаружили, что нам придется спуститься в овраг и выйти из него с другой стороны по козьей тропе, где турки могут играючи нас перестрелять. Монсеньер приказал нам лечь и дождаться рассвета, потому что поднявшееся солнце будет бить туркам в глаза и мешать целиться. Но Навай совершил очередную глупость, правильнее сказать, преступление, мы услышали рокот боевых барабанов, словно специально устроенный для того, чтобы предупредить неприятеля о готовящейся атаке. Пришлось нам наступать в темноте, сгустившейся в предрассветный час. Это нас и погубило. Турки разили нас со всех сторон, сея настоящую панику в рядах наших людей, еще не отвыкших от морской качки…
Несколько минут — и наши ряды рассыпались. Началось беспорядочное бегство. Этого монсеньер стерпеть не смог. Где-то в темноте раздался взрыв, и он решил, что там в бой с турками вступил Морозини и что туда следует устремиться и нам. Однако его уже ранило в ногу. И тут мне повезло, я схватил под уздцы появившуюся невесть откуда лошадь. Он залез в седло, я взобрался на круп.
«Вперед, дети мои! — крикнул он. — Смелее! За мной! Во имя Людовика Святого!»
Мы набросились на турецких солдат вслепую и спустя несколько минут, как ни отважно мы дрались, нас пленили…
Стоя безоружные в лучах восходящего солнца, казавшегося теперь зловещим, мы уже представляли себя обезглавленными, даже видели собственные головы, воздетые на пики… Но на наше счастье великий визирь обещал. своим воинам по пятнадцать пиастров за каждого пленника и по семьдесят за командира. Нас связали и повели в лагерь, расположенный довольно далеко от города. Нашим взорам предстали укрытые в маленьких бухтах турецкие галеры. Мне, вышедшему из боя без единой царапины, и то было тяжело держаться на ногах, что же говорить о монсеньоре, чья рана не переставала кровоточить! Но он не выдавал своих страданий даже негромким стоном. Более того, он нашел силы, чтобы не вползти, а гордо войти в шатер, в который нас втолкнули. Там мы увидели толстяка в шелках, сидящего на подушках; рядом с толстяком стоял секретарь с бумажным свитком, пером и чернильницей на поясе.

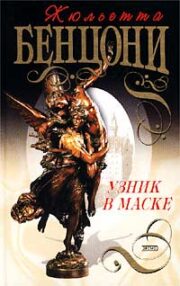
"Узник в маске" отзывы
Отзывы читателей о книге "Узник в маске". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Узник в маске" друзьям в соцсетях.