«Я женюсь на ней, раз меня к этому принуждают, — писал Франсуа, — но брак этот все равно останется фиктивным. Я не притронусь к вашей дочери, ибо буду всегда любить одну вас».
Сильви протянула листок Персевалю, не видя необходимости скрывать от него содержание письма, но он отказался, сказав, что знаком с тем, что там говорится, и так.
— Каким будет, по-вашему, отношение Мари к этому условию? — осведомилась Сильви. — Я предвижу новую драму.
— Сомневаюсь. Для нее важнее всего колечко на пальчике. Вы себе не представляете, до чего она самоуверенна! Она не сомневается, что рано или поздно добьется от него всего, и считает — возможно, небезосновательно, — что у нее еще вся жизнь впереди…
— Тут она права, — кивнула Сильви. — К тому же она так красива! А он, в конце концов, всего лишь мужчина…
Следующие несколько месяцев были, несомненно, наиболее печальными, какие только доводилось перегнить двору Людовика XIV. Королева-мать медленно угасала, а король тем временем не скрывал свою страсть к Лавальер. Все чувствовали, что любые его клятвы в любви к той, которую должна была вот-вот прибрать смерть, все его слезы, проливаемые с удивительной легкостью, — лишь дымовая завеса, призванная скрыть нетерпение. Он жаждал устроить для своей фаворитки — словечко, которое давно уже не звучало при французском дворе! — пышный праздник.
В мае накопившееся напряжение привело к неприятному эпизоду. Когда Анна Австрийская взялась править завещание, чтобы уточнить распределение драгоценностей между ее детьми, Людовик XIV стал с неприличной настойчивостью требовать, чтобы она отписала ему крупный жемчуг, которым он восторгался с самого детства. Пристрастие короля к драгоценным камням и роскошным украшениям было уже хорошо известно, он не мог смириться с мыслью, что эти необыкновенные жемчужины окажутся у малышки Марии-Луизы, дочери Месье. В конце концов он ими завладел за плату. Тогда Анна Австрийская передала младшему сыну свои знаменитые бриллиантовые подвески — самую дорогую свою память. Тот принял дар со слезами.
Все это время Филипп Орлеанский вел себя как безупречный сын, страдающий от горя, нежный и сострадательный. После того как мать перевезли из Валь-де-Грас в Лувр, он почти не отходил от нее, исполняя обязанности и санитара, и исповедника. Как-то раз, увидев гримасу страшной боли на ее изможденном, но все еще красивом лице, он вскричал:
— Хотелось бы мне, чтобы господь дал мне перенести половину твоих страданий!
— Это было бы несправедливо, — ответила она. — Господу угодно мое раскаяние.
Королева Мария-Терезия тоже самоотверженно ухаживала за женщиной, ставшей ей второй матерью. В этом ей помогали Сильви и Молина, так как королеве-матери теперь хотелось, чтобы люди вокруг нее разговаривали на языке ее детства; Сильви подолгу находилась в обществе своей подруги Мотвиль. Иногда умирающая просила бывшую свою фрейлину спеть ей, как в былые времена. Госпожа де Фонсом послушно брала гитару. Начав петь, она превращалась в прежнюю «кошечку». Тем временем животик Лавальер округлялся уже в третий раз…
Хорошие вести приходили в те тяжелые дни только со Средиземного моря, где Бофор творил чудеса. Дважды он наносил пиратам чувствительные потери. Сначала запер в порту Ла-Гулетт старого Хассана, который был убит в самом начале сражения, потеряв пятьсот человек. Пушки королевского флота подвергли сильному обстрелу Тунис, французы захватили три вражеских корабля. Потом, наведавшись ненадолго в Тулой для ремонта и пополнения рядов, Бофор предал огню и мечу берберский порт Шершель, где поджег два корабля и захватил три. Штандарты поверженного врага были доставлены в Париж и вывешены 21 октября под сводами собора Парижской Богоматери во время торжественного богослужения. Столица усердно прославляла человека, которого по-прежнему именовала «Королем нищих». На следующий день после триумфа в своем особняке в предместье Сент-Оноре скончался отец триумфатора, Сезар Бурбон, герцог Вандомский.
Умершему был 71 год, и его огромное тело, предназначенное для столетней жизни, было изъязвлено болезнями, вызванными многолетними беспутствами. Прежде чем умереть, он долго мучился от подагры, камней в почках и сифилиса, пытаясь ослабить свои страдания всеми средствами, которые могли ему предложить всякого рода знахари. Врачей он считал неисправимыми ослами. Последние месяцы он прожил вместе с женой в своих любимых замках, Ане, Шенонсо и особенно Вандоме, своей герцогской резиденции, которую он всеми силами обустраивал. Иногда его видели в Монтуаре, там ему принадлежал небольшой домик, где он особенно хорошо себя чувствовал и где отдыхал после пиров, закатываемых в других владениях. Старый грешник, он перед кончиной покаялся и нашел утешение рядом с верной женой, которая никогда не переставала его любить и мало-помалу вела навстречу богу.
В конце сентября, почувствовав некоторое облегчение благодаря снадобью знахаря из Монтуара, он отправился в Париж, чтобы находиться поближе к новостям о славных свершениях младшего сына, однако его мучения снова усилились, потом началась агония, продлившаяся три недели. Тем не менее за три дня до того, как перенестись в лучший мир, он попросил Сильви его навестить. Та без колебания поспешила на зов.
В пышной спальне, памятной ей с детства, ей пришлось бороться с тошнотой, вызванной страшным запахом болезни, с которым не мог справиться даже горящий ладан, призванный как будто утешать не только души, но и страждущую плоть. У изголовья умирающего сидела герцогиня Франсуаза, у ног молился монах-капуцин. Женщины обнялись, вспомнив былую взаимную приязнь. Госпожа де Ван-дом сказала шепотом:
— Мы со святым отцом удалимся. Он хочет с вами поговорить…
И Сильви осталась наедине с человеком, которому была обязана счастливым детством, но который впоследствии причинил ей немало боли. Она подошла к недавно перестеленной, судя по безупречному состоянию, постели и посмотрела на исхудавшего, пожелтевшего, почти полностью облысевшего больного, который считался некогда первым красавцем королевства. Ей показалось, что он дремлет, и она застыла в растерянности. Неожиданно его глаза открылись. Она увидела ничуть не поблекшую синеву.
— Вы пришли… — проговорил, вернее, простонал он, глядя на нее.
— Как видите.
— Зачем? Чтобы полюбоваться, каким сделала самого старого вашего недруга приближающаяся смерть?
— Вы не самый старый мой недруг. Ведь мою мать убили не вы. Лучше вспомните, что благодаря вам я смогла продолжить жизнь под сводами вашего замка. — За это надо благодарить не меня, а герцогиню.
— Однако вы согласились с ее решением.
Сухие губы попытались растянуться в улыбке.
— Возможно, кое-какая заслуга в этом деле и впрямь принадлежит мне… Сперва я вас не презирал, просто не доверял, особенно из-за вашей упрямой любви к моему сыну.
— Знаю. Вы уже говорили мне об этом — при иных обстоятельствах.
— Я ничего не забыл. Я был уверен, что главная ваша цель состояла в том, чтобы сделаться герцогиней.
— Странная штука — жизнь, не правда ли? Я стала герцогиней, хоть и не желала этого.
— Благодаря вашему браку со столь достойным человеком я понял, что и вы достойны уважения. Особенно ясно это стало после мнимой гибели моего сына, незадолго до того, как он убил своего зятя. Боюсь, мы неисправимы.
Я причинил вам немало зла…
— Немало, но все равно не столько, сколько хотели, ведь вы так меня и не уничтожили. Над любовью, которой я так и не перестала к нему питать, вы тоже оказались не властны.
— Вы его по-прежнему любите?
— Да, и буду любить до конца, а может, и после того, если угодно богу!
Воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием умирающего.
— Не знаю, поверите ли вы мне, — заговорил он, отдышавшись, — но я все равно скажу, что своим признанием вы принесли мне счастье. Теперь я должен объяснить, зачем вас позвал. Во-первых, чтобы попросить у вас прощения, возможно, вы хотя бы немного надо мной сжалитесь, поверив в мои угрызения совести. А во-вторых, я бы просил вас не спускать глаз с Франсуа. Он станет адмиралом Франции, и его многочисленные враги примутся его клевать, терзать…
— Как же я могу выполнить ваше второе пожелание?
Он бороздит моря в сотнях лье от меня, подвергается всем возможным опасностям, какие только таят стихия и люди…
— Перед смертью человеку дано прозреть будущее. Великая любовь обладает неисчерпаемой силой. Я чувствую, что рано или поздно ему потребуется ваша поддержка.
— Так вы обещаете?
Не в силах сдержать захлестнувшие ее чувства, Сильви опустилась перед его кроватью на колени.
— Клянусь, монсеньер. Я сделаю для него все, что будет в моих силах.
— Вы меня прощаете?
— От всего сердца.
Сильви, сотрясаемая рыданиями, почувствовала у себя на лбу пальцы Сезара, медленно выводившие контур креста.
— Да благословит вас бог, как благословляю вас я! Если ему будет угодно внять молитве старого грешника, я помолюсь за вас обоих…
Вопреки ожиданиям многих, Людовик XIV выказал искреннее огорчение по случаю смерти своего противоречивого дяди, в котором безумная отвага сочеталась с расчетом, разнузданность — с глубоким христианским смирением, раскаянием, щедростью и состраданием к несчастным, унаследованными его сыном Франсуа. К дяде король обращался, кстати, «мой кузен». К тому же смерть прибрала в его лице последнего из сыновей Генриха IV. К большому удивлению многих придворных, король повелел, чтобы Сезара хоронили по чину принца крови. У гроба с покойным стоял почетный караул. Герцогиня, разрываясь между гордостью и горем, молилась рядом. Сильви тоже подошла преклонить колена и помолиться вместе с Персевалем, Жаннетой и даже Корантеном, прибывшим из Фонсома, чтобы в последний раз поклониться человеку, которому некогда служил. Благодаря приезду Корантена Сильви узнала, что юный Набо, проживающий в ее пикардийском замке, постепенно обретает вкус к жизни, приобщаясь к искусству садоводства, Корантен не мог нарадоваться на этого ловкого и неизменно улыбающегося помощника.

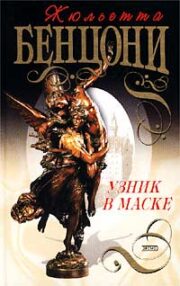
"Узник в маске" отзывы
Отзывы читателей о книге "Узник в маске". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Узник в маске" друзьям в соцсетях.