И в первом же медленном танце, когда она вся, ничуть не смущаясь, прижалась к нему («Твоя силиконовая грудь, мне не уснуть, не ус-нуть…» — тотчас же угодливо повторилось в его голове, а потом раз, и еще раз), он ощутил, во-первых, свою полную и безраздельную власть над нею, а во-вторых, радостное предвкушение свободы, какое, наверное, чувствует гончая перед охотой. Они выходили потом покурить — она угощала его «Бондом», они стояли чуть в стороне от общей толпы, как и положено парочкам, ее звали Катей, они о чем-то говорили — убей, он теперь не помнит. Да и не разговор это был, а так, какие-то междометия сквозь шум и здесь громко звучащей музыки. Были колечки дыма — восхитительного дыма, ее маленькие пальчики с бордовыми ноготками, и бордовый же след на фильтре сигареты от губной помады. И уже тут, на пороге клуба, он понял, что овладеет ею и что она не прочь, и теперь он мучился мыслью: как и где это осуществить?! Все, что происходило теперь — в волнении, в лихорадке, — было, конечно, не любовью — он это понимал; но это чувство тоже было сильным, и потому он подчинялся ему с готовностью. Катя нравилась ему своей свободной, без ломаний, покорностью, и это чувство, которое он сейчас испытывал к ней — чувство благодарности за свою легкость общения с ней, было, кажется, ненамного хуже любви. Так думал он. И хотелось, чтобы дискотека закончилась побыстрей, и в то же время эта мысль пугала его, потому что непонятно было тогда, — что делать в тишине, о чем говорить, когда умолкнут музыканты, и наступит простая, трезвая, обыкновенная ночь, так похожая на сотни других… К концу дискотеки пошли сплошь медленные танцы, и он изнемогал от желания, чувствуя ее грудь, ее бедра, ее живот, все еще совсем недавно чужое, а теперь уже доступное и свое.
После дискотеки он пошел ее провожать и в ближайших кустах начал ее страстно, до одури, целовать, почти душить, он был как пьяный, когда она ему бормотнула: «Давай ко мне, предки на даче», а он так устал от всего напряжения сегодняшнего вечера, что уже и не понимал, что они должны делать у нее дома…
И после, когда все это произошло, совсем все, от чего начинаются войны и рождаются дети, от чего люди идут на подвиг и на величайшую подлость, от чего совершают безумства и отрекаются, как от чумы, что проклинают и воспевают, в чем видят величайшее, святое наслаждение жизни и что покупают у девок с трассы за сто рублей, и что в безответной любви нельзя даже и вообразить, представить, так вот, когда это все свершилось, он вдруг почувствовал глубочайшую пустоту и обиду, почти оскорбление. Как будто все хорошее, что было в его жизни — а было ведь, было в его жизни и хорошее! — так вот, как будто все славное, что копилось в его душе день за днем, год за годом, все это сразу, одним махом, безвозвратно потеряно. Это чувство походило на то, как если бы у него был дом, и вдруг он сгорел. И ничего, кроме пепелища, у него не осталось. Или это походило на то, как если бы он все свои деньги, сбережения, накопленные тяжким ежедневным трудом, проиграл в «наперсток». Все это было грязно, подло и некрасиво. Он не чувствовал себя ни человеком, ни животным, никем. Он стал — ничто. И от этого он часто стал сглатывать слюну — его подташнивало. А Катя — плакала. Он собрал все свои силы, чтобы не грубо (ее он в эти минуты ненавидел как причину своей обворованности) спросить:
— Ты чего?
— Ага, меня мамка будет ругать…
«Вспомнила про мамку, дура!» — злобно подумал он, а вслух сказал, глядя на ее простое некрасивое лицо с широким носом, что любит ее (как только язык повернулся во рту!) и что все будет хорошо… Но все вокруг — мрачная, с погасшими огнями «зона»; стояла глубокая ночь, когда он, спотыкаясь от тоски, брел домой; кочковатая дорога, противный крап дождя — все говорило о том, что ничего хорошего не будет…
Через два дня у проходной его окликнули два незнакомых типа. «Сергей? Шатунов? Подойди». Мужики были приблатненные — у одного наколка на пальцах, другой, широкий как шкаф, был весь в коже — с головы до ног. Рядом стояла красная «девятка» с тонированными стеклами. Тот, что с наколками, отворил дверцу: «Садись». В машине оказался еще один тип, с грубым, тяжелым лицом.
— Вот он, Петрович…
Что-то неладное было во всей этой истории, но что, он не мог уловить из-за того, что все эти дни он жил в ощущении кромешной пустоты жизни; жизни, в которой уже никогда не будет любви. И, видимо, в лице его было столько горя, что Петрович не стал его бить, как собирался сначала. — Значит так, — он дохнул ему в лицо крепкой, устойчивой смесью самогона и чеснока, — ты был с Катей. Ей четырнадцать лет. Справку мы у врача взяли. Сроку тебе — неделя. Или плати сто пятьдесят тысяч, или сядешь на восемь лет.
Ему казалось, что он — это не он, и этот не он, пораженный, жалко спрашивает:
— За что?
Петрович, приняв его за полы куртки, грязно выругался, брызгая слюною в лицо.
А он никак не мог постичь, осознать происходящее. Все было как в кошмарном, долго длящемся сне. И он забарахтался, закричал тонко:
— Я ни к чему ее не принуждал! Все было по согласию!
— Послушай, парень, — Петрович еще раз тряхнул его, вцепившись в куртку. — У меня горе, понимаешь?! Я — отец, и я свою дочь от позора обязан защищать. Ты все понял?
Эту неделю он прожил в мучительной борьбе с самим собой. Как быть? Пуститься в бега? Он не мог бросить Танюшку, значит, ехать надо было вдвоем, в Павлодар, к матери (больше некуда), чтобы там его все равно с позором взяли и посадили. И чтобы потом, на «зоне» — уже настоящей, а не здешней, над ним, насильником, глумились и издевались — как именно, он даже не хотел представлять, не давал воли своему воображению.
Собрать сто пятьдесят тысяч он не мог, даже если бы он продал одну почку. Да и не такое это простое и быстрое дело. Убить кого-нибудь ради денег? Это значит сесть уже по двум статьям, а может, и получить «вышку». Никаких других вариантов он не видел. Кати на поселке не было — уехала на весенние каникулы к тетке. Он осторожно, между делом, навел справки у ребят — девчонка не отличалась строгостью нравов. Но он, в общем, ее и не винил. Ее он ненавидел. Как ненавидел всю ту жизнь, которую он вел прежде и которая загнала его в угол. Он бы, пожалуй, смог бы убить ее сейчас, так он ее ненавидел. И только мысль о Танюшке его сдерживала от мести — как она будет потом жить, с чувством, что ее брат — убийца?!
И он думал, думал и видел только один достойный выход. Он всем развяжет руки — матери легче будет растить сестру. Сестре не надо будет думать о передачках. Сам он избежит позора тюрьмы. И ему казалось, что, после того как петля стянет ему шею, когда перестанет биться сердце, когда одеревенеет тело, у него все равно будет живая душа, и он их всех увидит, всех, кто его презирал, а теперь будут уважать, сочувствуя Танюшке на кладбище. Он всех их увидит и поймет им истинную цену. Так он грезил, уже решившись. Может быть, это было заблуждением, его очередным заблуждением, но так ему было легче жить сейчас, в эти последние часы и минуты, жить, ни о чем не жалея, жить, уже прощаясь с этой постылой и ненавистной жизнью и даже немного сочувствуя тем, кто останется здесь после него…
Хоронили его в хмурый апрельский день; на «зоне» нет своего кладбища, и усопших возили за десять километров в село Красное. Гроб доставили на открытой машине, маслозавод выделил автобус для тех, кто провожал покойника в последний путь. Селяне без шапок угрюмо встречали процессию. У ближнего к кладбищу двора на бревнах сидели притихшие ребятишки; вышла за ворота бабушка в фуфайке, в белых носках, в глубоких калошах. Рядом раздумчиво стоял крепкий кот — хвост трубой.
Земля из могилы была рыжей и рассыпчатой. Народу набралось много, и действительно, все теперь находили в покойном только хорошее.
— Парень-то рабочий был, — вытирала слезы Ростопчиха, — уважительный такой, всегда здоровается, бывало.
— А я его чесь не помню, — признавалась ее соседка.
— Был бы дурак или хулиган, так сразу бы вспомнила, — здраво рассуждала Ростопчиха, — вишь, сестренка-то как убивается! Как бы с ней плохо не сталось…
И потом, когда намеренно грубо мужики с маслозавода оттягивали Таню от гроба, когда они, волнуясь и промахиваясь, прибивали большими гвоздями черную крышку, поселковые бабушки, постоянные посетительницы всех похорон, толковали между собой:
— Осталась девка одна…
— Да…
— Пропадеть…
— А мать с Казахстана не приехала, не успела. То-то горе! Повис из-за этой курвы!
— Сказали: садись в тюрьму, а там, на ней небось бывали-перебывали! Вон, к одному поехала жена в лагерь на побывку и заразила его сифилисом. Такого раньше не было!
— Батюшка отказывался хоронить…
— Ничего, денег сунули, так и подобрел!
Копачи, среди которых был и Колька Баландин, курили поодаль от ямы. — Был парень и нету, — рассуждал мужик в аккуратной, под армейский пояс, фуфайке.
— Сестра из петли еще теплого вынула, — авторитетно рассказывал Колька. — Перепужалась — страсть!..
Разумеется, все собравшиеся были в курсе причин Серегиной смерти.
— Че он с ней связался? — недоумевал пожилой мужик из Красного. — Других девок, что ли, не было? Тем более папашка у нее мафиозный, у него все друзья с рэкета.
— Че связался?! Да они сами вешаются! — возмутился Колька.
— Надо было отбиваться! — досадливо крякнул пожилой и, отвернувшись, незаметно смахнул слезинку…
…Через год появился на могиле дорогой памятник. Танюшка уехала к матери в Павлодар, и ходят слухи, что памятник поставили по заказу Петровича.
На сером граните Сережа даже красивей, чем был в жизни, — ясный лоб, густые вьющиеся волосы, зачесанные наверх, чувственные губы, чуть раскрытые в виноватой улыбке, широко поставленные большие глаза.

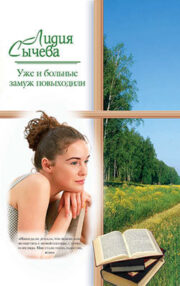
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.