Уже вывесили на школе объявление, чтобы ученики и родители приходили мыть классы для Первого звонка, уже по вечерам без куртки нечего было делать на улице, уже редкий день выдавался ясным и теплым, и лимонный лист летел с кленов, и огороды, освобожденные от картошки, чернели перекопанной землей, и птицы слышны были не поющие, а кричащие, — август подходил к концу.
На бывшей киноплощадке — фильмы не показывали со времен перестройки — завклубом, находясь под угрозой сокращения, «развернул работу» — устроил дискотеку. Тускло качался на столбе единственный фонарь, допотопные усилители несли хриплый ритмический шум. Молодежь азартно, надеясь пробить старые доски, топала по настилу, по углам с визгом носилась малышня. Марина немного постояла среди тех, кто не танцевал, среди любопытствующих и стесняющихся. Собралась уходить.
— Куда же ты? — Мужской голос, мягкий, сочувствующий, заставил ее вздрогнуть, она уже стала привыкать к тому, что никому не нужна. — Все думаешь, думаешь, — понимающе продолжал незнакомец, — грустишь. — Она молчала. — Был бы помоложе, никуда бы тебя не отпустил, — сознался он. — Ну давай хоть провожу, чтоб волки не съели…
Она могла сколько угодно рассказать историй про маньяков, которые входят в доверие, а потом убивают жертв, про венерические болезни, СПИД, девичью осторожность, но все это вдруг опрокинулось, поплыло от простого человеческого слова, сочувствия. Этой же ночью на краю заброшенного песчаного карьера, подстелив на землю его куртку, они целовались до одури, до хмеля, до безумного, всеохватывающего желания, и она удивлялась родству, которое чувствовала к совершенно незнакомому ей несколько часов назад человеку. Она и теперь знала о нем немного: что зовут его Николаем, что ему тридцать два, работает шофером, с женой нелады, а дети растут охламонами… Он него пахло машинным маслом, дымом, водкой, но все равно он был родным, единственным. «Да, выпивши, с ребятами после работы. От хорошей жизни, думаешь? Ну и правильно, что выпил. А трезвый бы и не насмелился к такой молоденькой подойти. Ты ведь еще ребенок… Знаешь, сразу мне понравилась, с первого взгляда. Я давно за тобой наблюдал, стою, думаю: хорошая девчонка — не то что эти крашеные соски, — а чего-то тоскует, мается. Может, с матерью поругалась? Или в школу идти неохота? Или обидел кто? Я в центре живу, мне ребята говорят: поехали, в Подкопаевке сегодня дискотека. Да идите вы, говорю. Почти силком притащили. Я тебя и увидел. Думаю: чего она скучает?! Молодая, красивая…» А у нее текли слезы по щекам; было уже, наверное, час или два ночи, окрестности стихли, месяц и звезды, двоящиеся от беззвучных слез, светили рассеянным серебром, и все: его усталый профиль, кромка далекого леса, пустота выбранного карьера, песчаная лента дороги по его дну — все отражало серебряный свет, и, казалось, этой счастливой ночи не будет конца. — Ты меня любишь? — Она обнимала его так крепко, словно хотела в него вжаться, вжиться, а метеоры чертили небо красными гаснущими полосами, и впервые звездный свод казался ей совсем близким.
— Люблю.
Они целовались и ласково боролись, перекатываясь по земле, и все разговоры между ними теперь свелись к одному — последней близости. Он старался быть с ней бережным и все просил ее, уговаривал, настаивал, умолял:
— Ну чего ты, глупенькая? Ведь у вас, у молодежи, все стало просто! Господи, — почти плакал он, — да за что мне такая мука?!
Она жалела его, ласкала, обнимала еще крепче, но разрешить ничего не могла. Почему? Она не знала. Этому противились не ее чувства или разум, или тело, а что-то другое, чего она не могла в себе понять и объяснить. «Нет», — твердила она уже почти механически, и он в конце концов отступился.
Прошла осень, потом зима. Осенью было много туманов, дождей, распутицы, зимой — гололеда, снежных заносов. Николай водил тяжелый ревущий «Урал», увозил ее из Подкопаевки в лес, в поле, к реке. Дороги были плохие и осенью, и зимой; машина тяжело перебирала рубчатыми колесами по грунтовке, давя грязь, трамбуя снег; и больше всего в их отношениях ей нравилось это упрямое движение вперед, грозовой гул мотора, «уральская» сила, мощь.
Все остальное было ужасным.
Жизнь ее окончательно потеряла цельность — будущего у них не было, а роман, отягощенный мучительной незавершенностью первой ночи, длился и длился. Она никогда не влюблялась ни в артистов, ни в певцов модных групп, ни даже в литературных героев, вроде Печорина, и каким должен быть ее избранник, не знала. Брюнет или блондин? Штатский или военный? Принц или нищий? — Ей было не то что все равно, но она не понимала, какое отношение к такому стихийному чувству, как любовь, имеют ее личные желания.
Теперь она изводила себя размышлениями: почему он был совсем, совсем чужим?! Неужели она заслужила такую любовь?
Два письма «до востребования», присланные им из командировки, причинили ей почти физическую боль своей глубочайшей безграмотностью. Но еще больше ее угнетало его апатичное безволие, равнодушная готовность к любому несчастью, беде (радости, чуду); неисчерпаемая терпеливость, вдруг прерываемая водкой, диким, агрессивным запоем. А пил он часто и по любым поводам — то «для храбрости», то «с горя». Каждый день, отправляясь в школу, она останавливалась у широкоствольной ивы, основание которой поросло плотным, каменной прочности грибом. И она чувствовала себя таким же деревом, несчастным в своей недвижимости и навсегда слитым с болезненной нарослью. Выхода не было: она жалела Николая (за то, что он когда-то пожалел ее); ненавидела — за страх перед разоблачением их преступной, позорной связи; и все равно тянулась к нему, как тяжелобольной к наркотическому лекарству. Развязаться, расстаться, уйти, избавиться — ни на что не хватало сил!
…А в школе для выпускников провели вечер-диспут: «Существует ли настоящая любовь?» Марина, по просьбе русички, красивым шрифтом написала на ватмане: «Любовью дорожить умейте» и прочее, из Щипачева.
Она будто жила в двух измерениях, и второе — тайное — теперь намного перевешивало явное, вся ее жизнь день за днем катилась под горку в темный тупик. Странно было: так же блестяще, как и прежде, отвечать на физике и геометрии, возвращаясь из школы, вешать на плечики в шкаф одежду, вечерами, таясь, обманывать мать, бежать на свидание с Николаевым «Уралом» и в промежутках между этими логичными, осмысленными действиями слышать, как истончается твое время. Разве что некоторая замедленность, суховатая педантичность появилась в ее движениях, все чаще, перед тем как заговорить с кем-нибудь, она поднимала на собеседника темно-зеленые, с большими черными зрачками глаза и все смотрела, смотрела…
Стояла середина марта, весна рождалась из грязи, остатков просевших, серых сугробов, какой-то болезненной бескормицы — худые воробьи копались в кучах навоза, перезимовавшие вороны без конца каркали — уныло, приглушенно, ни в небе, ни на земле не было ни одной яркой краски — все сливалось в пасмурную, размытую муть.
Вечером она достала из ящика шкафа целлофановый пакет с лекарствами, аккуратно разложив их на столе, принялась изучать аннотации. Химию она знала — усмешка скривила ее губы — не хуже Базарова, да. Мгновенная легкая смерть. Вечером — жизнь, ночью — сон. Она не чувствовала страха, а лишь взрослую умудренную усталость, и все прикидывала на бумажке, как бы отобрать все точно, ничего не перепутать, не ошибиться. Об умерших — хорошо или никак, пусть лучше никак после смерти, чем плохо при жизни. Она ни о чем не думала, ничего не хотела, голова раскалывалась, и она с радостью вспомнила, что, отравившись, попутно избавится и от этой боли.
— Захворала чем? — Мать стояла рядом, тревожно заглядывая в ее лицо.
— Нет.
— А я вот, — мать виновато потопталась, села на краешек дивана. В руках у нее был двухлитровый желтый бидончик, — хотела побалакать с тобой…
— Давай побалакаем. — Дочь с досадой отодвинула лекарства.
— Марин! Надо ж думать, поступать куда летом! — горячо начала мать. — За хлебом ходила, так Костина Люба кажет, что девку свою в педучилище или в колледж в Елец, или в техникум строительный, в Ливны, что ли…
Она молчала.
— Ну вот, ты не думай, — заторопилась мать, — не горюй, — она сняла крышку с бидончика, — гляди, я денег насобирала! — Бидончик наполовину был заполнен крупными купюрами, пачками и в россыпь. — Хватит людям дать, куда захочешь! Хоть на юриста, или на менеджера, на врача — зубного или хирурга — тоже выгода есть!
Мать все говорила, спеша, не говорила — уговаривала, убаюкивала, а она смотрела на нее будто в первый раз, видела сбившийся на длинное ухо платок, пегую прядь (господи, а ведь ей всего сорок!), руки, уже покрученные ревматизмом, рваные резиновые боты на ногах… Она потерла виски, отгоняя наползавшую на глаза темноту. Очень хотелось спать.
— Овсянников, видимо, — тихо заметил Петр Георгиевич. Евгения Андреевна возразила одними губами:
— Лукьянов. Или Петровский.
Они второй день принимали экзамены на физмат университета и по ответам поступающих легко угадывали почерк репетиторов.
Худощавая абитуриентка, одетая по-школьному торжественно — белый верх, черный низ, с суховатыми, но приятными чертами лица, с тщательно собранными на затылке волосами, отчего уши у нее торчали наивно, розово, отвечала без всякого волнения — точно, свободно.
— Первый вопрос — достаточно, — мягко остановил Петр Георгиевич, — второй опустим, он для вас слишком прост. Покажите, пожалуйста, практическую часть.
Она протянула исписанные четким, правильным почерком страницы.
— Прекрасно, — пробежав решение, оценила Евгения Андреевна. — Логика безупречная, сделано весьма рационально. Однако оформление, — она легко поймала спокойный взгляд абитуриентки, — скажем, э-э-э, несколько старомодно. Марина, э-э-э, — она заглянула в протокол, — Анатольевна, кто вас готовил к экзамену?

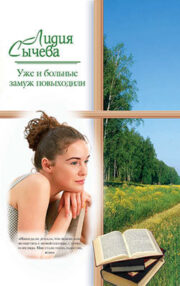
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.