…Наконец я остаюсь одна. Выключаю свет и открываю окно. Ночной город тоже пригасил огни, убрал шум машин. С бульваров пахнет мокрыми листьями, осенью. И никаких революций, чудес ждать не приходится: промозглость, ненастье, потом длинная, изнурительная зима… Подумать только, сколько еще нужно жить — в беде, страдании! Но вдруг мне начинает казаться, что ты выздоровеешь, что у нас еще будет лето — звонкое, теплое, и счастье будет, и тайная любовь, и поцелуи, и все, все… Это кровь твоя заходила, загуляла во мне. Ты меня позвал, вспомнил в эту ясную далекую ночь! Ответил, и я радостно выдохнула: «Ваня, Ваня!» Боже мой! А люди пыжатся, тщеславятся, обманываются карьерой и деньгами, а надо ведь только учиться любить, слышать друг друга — через тысячи километров. В этом счастье!…Я увидела, что город наполнен природой — дышали деревья, земля, небеса, даже опавшие листья дышали и жили; я увидела, что природа — везде, и что во всем сегодняшнем вечернем устройстве столько красоты, что я никогда не посмею ее коснуться. И еще я видела крупные выпуклые звезды над головой. Они были совсем рядом, эти звезды. И ты — тоже…
Ночь светла
Я ехала вечер, ночь, утро, день; и где бы ни останавливался поезд, везде шел дождь, так что казалось, будто мы стоим на одном месте. Станции с металлическими мостами-виадуками все были похожи одна на другую; все — с бесцветным небом, спокойными, тяжелыми рельсами, неподвижной громадой грузовых вагонов. Везде мне было одиноко, как бывает одиноко в бесконечный дождь; везде перрон пересекали редкие съежившиеся фигурки, и только торговки вразнос — мороженым, водой, семечками — бодрились, кричали о своем товаре, стараясь разбудить сонного, укачанного железной люлькой покупателя. Я взяла у крепкой еще бабы — не старушки — тарелку горячей картошки, пересыпанной жареным луком, с несколькими солеными огурчиками, кругляшами редиски; на овощном великолепии высилась крепкая куриная ножка. Картошка стоила двадцать рублей, продавщица ловко высыпала блюдо на белый лист бумаги и завернула в страницу из местной газеты: «Ешь, милая, ешь. Ругать меня не будешь — хорошее все».
В вагоне я сразу же стала есть — не от голода, а от безысходности — я не знала, куда я еду, зачем… Так повторялась моя жизнь сызмальства, с детства, когда я сидела у асфальтированной дороги, положив на землю старенький велосипед. Я смотрела на машины — они никогда не останавливались — и мечтала: увидеть Петербург, Рим, Самарканд… Стройные дворцы и узорчатые мечети, тюбетейки из ярких ниток, помпончатые береты распутных английских моряков, густой запах южных кофеен, звуки невидимой гитары и ветра, бьющегося в витражное стекло, — все это было где-то прочитано, а потом уже выдумано мной. Потом пришла юность — эх, если бы понимать тогда, как она была прекрасна — бедная юность с бессонными поездными ночами в переполненных вагонах, где стоял сивушный запах мужских носков, зло лязгала туалетная дверь, ядовитый сигаретный дым вился из тамбура. Но утром я могла не смотреть в зеркало — кожа была свежа, млел румянец, а как весело, живо блестели глаза!
После настала молодость — нервная, одинокая, и казалось, что все уже прожито, счастья нет и не будет, только столбовая дорога к смерти, путь потерь, беды и разочарования. Я снова много ездила и, признаться, не видела в дорогах смысла. Земля моей страны была большой и — печальной, печальной… Почему-то я больше помню зимы: покойные, холодные, глубокие зимы. Мороз медленно студил округу, спали деревья на пригорке, и лишь я, соединенная случаем с попутчиками, ехала в тепле вагона, а где-то переключались стрелки судьбы, рельсы сходились и расходились… Эти дорожные встречи и разговоры, влюбленности, удивления — сердце мое щемило. Но определенность была только в рельсах, рельсах, которые проложили задолго до моего появления на свет. Я едва помню лошадей, лошадиную силу мускулов, удар крепких, живых копыт о землю, сосущий страх, когда лошадь понесла. Теперь меня несет поезд в тысячу лошадиных сил; но мне кажется, что и от меня что-то отнято, что моя, человечья сила пошла на убыль оттого, что я не скачу на лошади, не хожу среди дубравы, редко слышу голоса птиц, да и то, кажется, всего лишь воробьев, бранящихся как супруги перед разводом. Уже не торить мне тропинки через луг, не сидеть в задумчивости у реки, слушая тихое движение воды; меня несет поезд. И оттого, что рельсы эти проложены не мной, что мне не выйти, не изменить своего пути, мне грустно.
Ночь светла… Ночью я сидела за боковым столиком с бабкой, весь вагон всхрапывал, вздыхал или таился, прося сна, лишь бабка «колобродила».
— Я, гляди, не могу в поездах спать, пока не досижу до трех часов. Такая я была и есть.
Я поддакивала ей и смотрела за окно — дождь все шел, редкий, небо напоминало стиральную доску — такой смутной волной легли по своду облака; бурты кустов даже в темноте давали мягкий, зеленый отсвет темного своего стояния, а потом — ночь стала совсем светлой… Бабка, согнувшись, положила голову на столик, на свернутое в несколько раз домашнее полотенце. Она была похожа на холмик — такая маленькая и старая в этой огромной ночи. Только голос у нее был четкий, ворчливый; а ехала она к сестре — до Горшечников. Но когда она говорила, от нее веяло запахом глубокого погреба, старости. Бабка ругала парней и девок, что шляются, шлындрают по ночам, ухитряясь цеплять ее за поджатые ноги.
— Туды-сюды, туды-сюды, сатаны! Сиди ты на своем месте, куда тебе несет! Днем и ходи. Один, пьяный, споткнулся, потом извинялся час. А я говорю: иди ты, пьянчуга! А ты, девонька, дреми, дреми. И я, может, как забудусь.
Я делала вид, что сплю, но потом все смотрела за окно, а поезд все мчал и мчал. Этой ночью я сидела с бабкой, потому что у меня не было своего места. Билетов не купить, а поезд был взят кавказской мафией — и начальник, и большинство проводников были, кажется, чеченцы. Я вспомнила, как ходила за надменным маленьким кавказцем по перрону, как он шагал намеренно прямо и гордо, штиблеты его блестели. Мне было наплевать и на его штиблеты, и на него самого, мне нужно было ехать, и я едва сдерживалась — было смешно смотреть, как он строит из себя величину, и было горько от того, что все здесь схвачено, решено и занято. В конце концов, он взял меня без места, вальяжно сунув в форменный карман десятидолларовую бумажку, и теперь я была благодарна бабке за ее бессонницу, за то, что мне есть где присесть.
А ночь была обнаженно светла, светла до боли, до серебряной кинжальной боли. Я смотрела за окно и думала о том, что мы не знаем нашей земли, и лишь немногие из моего поколения догадываются, прозревают ее. А те, кто придут за нами, потеряют эту землю тихо, даже и не заметив. Мы не исходили ее босиком, не проскакали ее пределы на лошади, а вот, промчались на поезде, из которого невозможно выйти. Мы не знаем ее земляной мягкости, ее трав по названиям, ее деревьев по листьям, ее просторов, политых кровью. Мы не знаем звезд, которые светят над нашей землей, нам остается только смутная тоска по тайне, которая угадывается в книгах наших предшественников. Мы знаем много того, что совсем не имеет отношения к этой ночи, к дождю, к грустной тоске одиночества, которое сейчас ест мое сердце, мы знаем рекламу, телевизор, не успевающую вызреть горечь потерь, и еще мы знаем общее доживание в поисках тупого удовольствия. Я вдруг поняла, что мы никогда уже не долетим до других планет; что все мы участвуем в каком-то гигантском эксперименте по глупости и что выйти из него нет никакой возможности — это было бы так же безумно, как если бы я сейчас сошла с поезда. — Вот так-то оно, жизнь проходит, — сказала четким голосом бабка, очнувшись от дремы. Поезд притулился у станции — бетон и железо, — и по белому своду ночи — дождевые капли, и по стеклу — капли, и железнодорожник в дождевике с капюшоном, и по блеску его плаща — капли…
— Ты иди, иди, — внушала мне бабка, — там кто-то вышел, места есть. Иди, а я тут разложу, хоть ноги вытяну. Может, цеплять не будут.
Я нехотя ушла от бабки — мне было страшно оставаться одной. Я нашла место, боковое, у туалета, но зато стекло было такое чистое, что сливалось с ночью. Поезд тронулся, я думала с ужасом: зачем мы придумали этот поезд или даже космический корабль — они никуда нас не привезут — ведь конечного пункта нет. По земле нужно обязательно пройти самому — от начала до конца, — иначе ты ничего в ней не поймешь… Я ерзала на комковатом матрасе, чайная ложечка дребезжала, ударяясь о стенки стакана в подстаканнике, поезд шел. И я пожалела, что теперь мне выйти невозможно, а в детстве, глупая, я все смотрела на дорогу, мечтая отправиться в путь. А ничего на свете, кроме обмана, нет…
— Ничего нет, — сказала я вслух, но голос мой, в отличие от бабкиного, был слаб, тих и глух. Мой голос был покорней ковылей, которые я увижу днем, нежнее гроздьев цветущей акации, жальче ветра, уставшего летать и бродить по свету.
— Ничего нет, — повторила я чуть громче и заплакала, не поверив сама себе. А в светлое мое окно зашла луна, большая, спелая, от нее-то и шел серебряный свет, от нее-то и было грустно, от нее так светла и безнадежна была эта ночь, которая уже никогда не повторится.
Тополь серебристый
Если не было зимой крепкого мороза, свежести, снега, пушистого инея, снегопада на сутки, вьюжных вечеров, перламутрового льда и яркого, звездно-далекого неба, то, считай, что это время года не удалось. А осенью я люблю много чего: и теплые-теплые дни в сентябре, и утреннюю мелкую росу, и расписной грушевый лист, и кленовые бульвары в огне, и долгие глухие дождливые времена, когда в середине дня кажется, будто это «хмурое утро», но потом все обязательно прояснится, закончится и утишится…
Но летом — все другое. Лето никогда не надоедает, даже в самые жаркие дни. Летом кажется, что так хорошо будет всегда — в легком платье, в неге, в тепле и в радости.

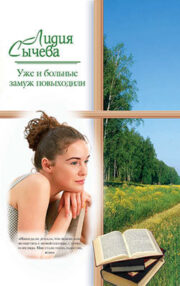
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.