И все же я подняла голову, чтобы подмигнуть кленам — мне было очень хорошо в этот миг, на этом месте, где мы впервые — глаза в глаза — встретились друг с другом. Я ничуть не сомневалась, что раньше здесь был подземный ключ, а в будущем здесь будет храм. Или наоборот. Потому что земля живая, говорили мне клены, это земля сказала вам то, что вы озвучили потом словами. И конечно, каждое место на земле может быть святым. Но надо, чтобы человек его услышал….И я побежала к тебе. И все, что есть в любви, у нас было. Мы так же счастливы, и так же абсолютно неизвестно наше будущее, которое, особо не мудрствуя, мы принимаем на веру. Так же шумят над нашей планетой клены, чуть клоня мудрые кроны и шепча листьями над местом, где родилась и подросла наша любовь, где она вызрела и выговорила себя такими обычными и такими солнечными словами…
На Троицу
Так вышло, что на Троицу ехала я с Украины домой на перекладных. И на рейсовом автобусе ехала, и на колхозном, и на КамАЗе, и на «Жигулях» с частником, и уж пешком потом шла.
А утро было таким, что хотелось начать жить с молитвы. На Украине бабы, вернее казачки, спешили в церковь — в платках цветастых, с букетами в руках. Маки алые, белые головастые соцветия, колокольцы и просто зеленые ветки — как празднично смотрелись эти яркие щедрые букеты! И синее солнце — от ночного теплого дождя — сияло в лужах! За что я люблю русскую Украину, так это за простоту. Здесь все естественно — и жизнь, и Бог, и работа, и побирушничество. И никакой заковыристости, нервности. Спокойный край, изрытый шахтами, спокойный народ, умеющий умирать, не думая.
А я все спешила домой, и поля здесь казались мне большими, но скудными, земля — песчаной, тополя — сухими, дороги — безлюдными. И только когда уже на нашей стороне пересела я в кряхтящий колхозный «пазик», когда увидела наши родные грубые лица и услышала говор, и автобусную многоголосицу, и смех, и эту общую тесноту общежития, я поняла — дома! Мужик в рубахе навыпуск добивался у ладной бабы, покрытой платком в повязочку:
— Нюр, ну вот скажи, что главное в корове? Вымя?
Она что-то отвечала, я не слышала сквозь шум.
— Чтоб корова молочная была, мне надо. Я глянул, а у ней вот такое, — мужик разводил в стороны руки, — вымя. А молодая корова еще!
А мы ехали по селу, мимо новых легковых автомобилей, у двора сидели бабушки на лавках, нарядный мужик вышел за ворота и задумался — хочется куда-то пойти и чего-то совершить необычное, но куда, зачем?! И везде, везде была безалаберная наша Россия! А в автобусе у нас истошно гудели гуси, тянули шеи из корзины, славная такая пара серого пера, с красными шипучими клювами. В проходе, в просторном мешке, извивались и хрипели двое поросят. А мужики с заднего сиденья громко толковали о баяне. Седые уже, но крепкие, настоящие мужики!
— Не знаешь, кому нужен? Хороший баян, корпус малахитом отделан. А звук — соловьиный.
— Не, не знаю.
— Детям не надо, внукам тоже. Все равно продам.
А мы уже подъезжали к реке, где мокли лодки у берега и тут же стоял мужик в трусах, тельняшке, с вислыми усами. В руках — малярная кисть. Мужик мудровал над почти законченным плакатом: «АО „Простор“ приветствует некурящих». — И непьющих! — орет ему из окна автобуса грубый парень Вовка, и сила его, и грубость очень нравятся его спутнице, женщине в мини-юбке, сильно накрашенной, с черными тенями у глаз. Оба они, похоже, уже отметили праздник…
А я проголосовала и еду на КамАЗе с дедом и его внуком лет девяти. Дед рулит, посматривает с высоты на дорогу и, чтоб не было скучно, напевает: «Она на святое распятье смотрела сквозь радугу слез…» И еще, путая куплеты: «У церкви стояла карета, там шумная свадьба была…» А вокруг так зелено, широко, высоко, дорога такая чистая, что я огромным усилием воли сдерживаю себя — мне тоже хочется петь! Дорога у деда с внучком дальняя — из Краснодара на Север, и он мне неспешно про себя и про свою жизнь рассказывает: и какой сын у него молодец (тоже водитель), и невестка — грамотная (с другим дитем сейчас сидит), а он Кольку с полутора лет с собой возит.
— Ты, конечно, будешь шофером? — спрашиваю я голубоглазого худенького Кольку.
— Нет, офицером, — смущенно отвечает он, а дед — я вижу — довольно улыбается глазами.
— «У церкви стояла карета…» Друг у меня был, Федя, мы с ним вместе в ракетных войсках служили, под Житомиром. Я вернулся, а он остался на «сверхсрочную» — проворовался, попал в дисбат. Мы двадцать лет не виделись — так и затянула его воровская жизнь. Потом он все-таки домой вернулся. Встретились у магазина. Говорит: приходи, посидим, с женой познакомлю. Ладно, служили ведь вместе. Взял я коньяк, закуску, прихожу, во дворе какая-то бабка старая. Я подумал: может, теща или родня какая. Спрашиваю: «Бабушк, с Федей как мне увидеться?» — «Иди в хату, он счас подойдет». Пришел друг из бани, сели, выпиваем; теща эта нам прислуживает, тарелки носит, а я у него и спроси:
— Федь, а где ж твоя жена?
А он:
— Да вот же Марьяна моя. — И показывает на «тещу».
Я, прямо, красный как рак стал, так мне стыдно. Она намного его старше, в какой-то колонии он ее нашел. Живут! Как-то мы с Федей на одну гулянку попали, гляжу, приходит Марьяна и начинает его уламывать:
— Батько, пишлы, батько, пишлы до хаты!
Представляешь — «батько» — я прямо от хохота лег под плетень!..
Я тоже смеюсь. Дед напевает: «Там шумная свадьба была…»
А мы едем мимо покосившихся домишек и совсем брошенных, мелькнула и скрылась гладь пруда, и старая церковь с галками на крыше осталась позади, и многие километры родной, горячей, пахнущей травами и полями, пылью и лесом земли тоже позади… Уж миновал день, и наступил вечер, и я иду к дому, теперь уже не спеша. Я жалею, что не стала художником, а то бы я обязательно нарисовала букет, который несла сегодня казачка в церковь; я бы обязательно изобразила гусей в корзинке; нарядного мужика, который в недоумении вышел за двор; и баян малахитовый, скучающий по хозяину, и будущего офицера Кольку, и вечернее поле, и луг, и все, все… Но тут же я вспоминаю, что у всего этого уже есть творец, и оттого день этот заканчивается так же светло, радостно и счастливо, как и начался…
Звезды были рядом
…Здесь тоже шла осень, летели листья, катились троллейбусы, а женщины в плащах — в новеньких, только что купленных, и в старых, оставшихся от прошлых сезонов, — спешили на работу, в магазин, домой… Клочья тумана плыли над городом. Иногда они застревали в деревьях, путались в полуопустелых кронах, сползали на тротуар. Туман тогда задумчиво стоял на земле — люди брели по колено в серой влажной вате. Город был окружен горами, тут часто — ни с того ни с сего — дул порывистый ветер, месил облака, затевал дождь… Местные птицы летели не стайкой, а одна за одной, будто собирались в далекие края.
Я сама чувствовала себя городской галкой — несчастной, черноокой, с крылом вороненой челки на лбу. Смотрела в витрины, и слезы невольно навертывались на глаза. В свободное время я слонялась по городу и твердила вполголоса твое имя: «Ваня, Ваня». Это был мой пароль, мой ключ к счастью.
В магазине ЦУМ пахло раскаленными утюгами. В отделе «Головные уборы» мужчины придирчиво мерили кепки, женщины — шляпы… Я почти скрипела зубами от боли, потому что не понимала жизни: зачем людям дана любовь, если все это может кончиться вмиг, безвозвратно?!
Туман, свернувшись, долго лежит на опавших листьях. Будто десятки бездомных собак и кошек — эти покорные комочки тумана. В городе не печально — бодро, от ядреной поры, от яблок, помидоров, винограда, чем забиты прилавки местного базара. Это мне тоскливо, мне одной, в этом, таком далеком от тебя, городе. «Ваня, Ваня», — зову я. Мне кажется, что от многократных моих повторений в слово переливается сила, так нужная тебе, чтобы бороться с болезнью. Я не знаю, как мне отдать ее, и потому бесцельно брожу по городу. И чувствую от этого угрызения совести, собственное бессилие, ничтожность.
В работе я забываюсь. Это похоже на то, как если бы я выпила стакан водки. Когда дневные командировочные дела завершены, я чувствую отрезвление и начинаю ненавидеть этот город, туман, давно уже растаявший под солнцем, людей, которые встают между нами со своими делами, хлопотами и мешают мне, отвлекают от главной заботы — думать о тебе. Вечерние думы — самые слезные и печальные, самые глубокие. В гостиничном номере я беру в руки телефон, поднимаю трубку… Нет, мне нельзя звонить тебе. Нельзя. По беспроволочной, такой хрупкой и ненадежной связи я шлю тебе сигналы, пытаюсь успокоить, усмирить твою боль. Но разве этим я смогу тебе помочь?!
Вечером — ужин у губернатора в узком кругу. Губернатор — высокий симпатичный малый с чуть рыхлой, располневшей фигурой. Он просит называть его Коля. Сервировка стола — хрусталь, серебро, множество приборов, яств, вин. Коля — деревенский парень, безотцовщина. Хвастает, как здорово он управляется с комбайном, как прицельно стреляет из пистолета и карабина, как когда-то перепил самого Ельцина в очном застольном состязании. Потом он рассказывает, как питался в Москве одним салом: «Мать мне в чемодан пять кусков положила», — и, когда домашние продукты закончились, он понял — пора возвращаться домой… Теперь он радушный, хлебосольный и внимательный хозяин. Коля просит гостей сказать о главном в их жизни. Я сижу от него по правую руку и говорю последней. Каждое путешествие меняет человека, что-то оно перевернуло и во мне. Прибавило ли оно мне счастья, обокрало ли? Я говорю о счастье так печально, что в него никто не верит. Тоскуй, душа, тоскуй! Будет тебе легче…
Коля — широкий человек. С размахом и отчаянием он ударяет кулаком по столу: Коля знает, что такое любовь… Одно из блюд прыгает на губернаторский смокинг, раскрашивая жирным соусом дорогую ткань. «Спокойно, Коля», — говорю я и щедро засыпаю солью безобразное пятно.

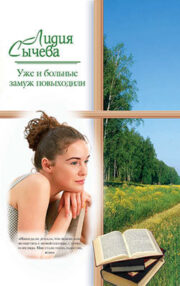
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.