Но все ж Мишка Надю не знал. Не знал! Че-то в ней как завелось, как заработало, как пошла Надя вразнос! Прокралась на ферму (без дитя), подкараулила Варьку (а как раз пересменка была, народу много), да как понесла ее! И «проститутка», и «шалава», и «страхолюдина», и «тряпка подзаборная», и «кикимора», и «Баба-яга»! Насколько Варька человек опытный, а тут даже поначалу опешила — вот тебе и тихая Надя! Потом, конечно, она опомнилась — стала части от доильного аппарата в Надю кидать — промахнулась. Но поздно, Надя-то ее облаяла!
А людям че, людям любой скандал — и новость, и радость. Языками чешут неделю, две, пока все кости досконально не переберут. Варька прям аж расстроилась. Надела сарафан лавсановый, косынку и поехала на центральный участок, к председателю Гусакову. Мол, так и так, обороните мое честное имя.
Гусакова, нового преда, из района прислали. Он, как прибыл, сразу собрал народ и говорит: «Здравствуйте, честны люди! Давайте наш колхоз переименовывать, а то на нас долгу много. Переименуемся, так все и спишут». Ну и проголосовали, как ему надо, а народ его сразу зауважал — во, голова! Толстый такой Гусаков, крепкий.
Варька нажалилась на Надю, Гусаков вызвал Кашина в кабинет. Стол дубовый, лакированный, флаг РФ в углу трехцветный, на столе портрет Путина в рамке, прям не пред, а губернатор или депутат какой. На что Мишка бестия, и то сробел. Штаны на нем замаслены, рубашонка, кепка в руке. А тут Гусаков — вымытый, вычищенный. «Садитесь, — говорит ласково, — рассказывайте».
Мишка и рассказал — в минуту вся жизнь уложилась. А че рассказывать-то?! Стыдно даже.
А Гусаков говорит отечески:
— Я, Кашин, три раза женат, и у всех жен от меня дети. И никто не скандалит, не обзывается. Цивилизованные отношения. Я, Кашин, всех обеспечиваю. Как настоящий мужчина. Ясно?
Ну Мишка и пошел. Шел, думал, что заплачет, — удержался. Вишь, говорит, всех баб обеспечивает. Всем хорошо… Завел Мишка трактор и поехал к бабе Мане самогонки купить. А сам уже выпивши был, а расстроенный… Страсть! Пришел и говорит:
— Теть Мань! Вот вы — человек ученый, работали звеньевой, что мне делать? Он меня оскорбил! Опишите все на бумагу частному адвокату, буду с ним судиться!
А она — Ой, Мишк, тут если все за эти десять лет описывать, кто сколько украл, так никакой бумаги не хватит. На каждый год по то´му — целую Библию можно собрать. Ты уж, Миш, молчи, перетопчись как-нибудь, перетерпи. Выпей — вот у меня дымка свеженькая, оно и полегчает. Тише, Миш, тише, ты не расстраивайся!
Так-то вот, ребята! Такая у нас нынче чечетка. А вы говорите: «Чечня, Чечня…»
Свидание
Ваня Петруньков, семидесятилетний, седой и худой, подвижный еще мужичок, схватил коляску и тишком, стараясь не греметь воротами, стал выбираться за двор. Жена его, Таня, хоть и была глуховатой, все же услыхала шум, выглянула из дверей:
— Куды эт ты, по такой грязе?
— Поеду, может, железо найду или еще чего, — горячо стал объяснять Ваня.
— Абы бегал! Жених! — припечатала супруга Таня и хлопнула дверью.
Петруньков громко вздохнул, выбрался-таки за двор и привычно, как натренированная лошадь, впрягся в коляску, волоча ее за собой.
Таня, низко повязанная темным платком, тоже вздыхала, угрюмо двигая по столу посуду. К Любке Береговой побег, это ясно. Схватит коляску — и в лес. Вроде бы колеса брошенные ищет, или железо, или рейку какую. А Береговая, курва, там коз пасет. Ну и идут шашни. Чем старее, тем, гляди, оно глупее становится…Ваня катил коляску по дорожке, потом пересек шоссейное полотно, приглядываясь, не появился ли на обочинах новый хлам, годный в хозяйстве; потом он переменил захват — стал толкать коляску впереди себя, пересекая акционерное поле со слабыми озимыми. Было тепло для начала мая, ближний лесок свежо зеленел, да и все окрестности в один день с приходом поздней весны посвежели, обновились; озабоченно, часто носились птицы; небо раздвинулось, стало синее и выше, просторней, и лишь деревенские домишки чего-то грустили, пережив зиму — на воротах и заборах краска облупилась, потеряла яркость. Но жизнь продолжалась, и с каждой новой весной будто начиналась вновь, и Ваня, вольно или невольно, тоже с каждой весной ждал чего-то нового, необычного. Хотя, честно говоря, ждать-то уже было нечего. Жизнь прошла, дети выросли…
А Любка Береговая, как он и надеялся, уже пасла коз на опушке. Разбитная, всю жизнь свободная, бедовая бабенка, была она кокетливо-весела, приветлива, понимающа. Это не Танька, что вечно ворчит, подтрунивает и считает себя умнее всех на свете.
Береговая, несмотря на годы (а уж и ей перевалило на седьмой десяток), одевалась всегда форсисто. Вот и теперь — в белом платочке в повязочку, в куртенке какой-то светленькой, и ноги — в белых козьих носках, и в калошах, конечно.
— Здорово, Люба! — издалека бодро закричал ей Петруньков.
— Здорово! Никак за золотом собрался? — И Береговая мелко, дробно рассмеялась.
— Не, — серьезно отвечал Ваня, — железо, может, какое найду; погреб надумал летом переделать, так материал нужен. Он подъехал совсем близко, стал рядом.
— А ты че ж, с козами?
— С козами, с козами. Так надоели, а куда, Вань, денесси? Че-то ж есть надо!
Штук десять коз — пуховых и дойных, рогатых, бородатых, белых, серых, старых и молодых истово щипали, почти не поднимая глаз, выбившуюся на свет травку.
— Да, — сказал Ваня, — вот и перезимовали.
— Перезимовали, да, — согласилась Береговая.
…А зима была дурная, почти без снега, и на Новый год лил дождь, и на Крещенье морозы не ударили, потом уже, под Восьмое марта, замело и заснежило так, что апрель разбежался на тысячи журчливых ручьев, озерков, лужиц. А теперь — будто и не было зимы, зимней жизни. Все новое — и трава, и листья, и небо, и даже земля.
— Че ж, Вань, — помолчав, степенно говорит Береговая, — ты телевизор смотришь? Будет у нас реформа денежная или как?
Петруньков — большой дока в политике:
— Смотрю. Плохие наши дела. Ой, плохие, Люб!
— Да ты че?! (Что в Береговой Ване и нравилось, так вот эта доверчивость, наивность. А Таньке что не скажешь — все под сомнение.) — А Путин? Он же берется вроде?
— Че там берется! — Ваню понесло: — Путя, он и есть Путя. Как писклок. Ни голосу, ни твердости. Какой из него оратор?! Ды вышел бы, ды сказал: так и так. А то поехал в Японию, девчонка через себя его и кинула. А берется державой править!
— А че за девчонка?
— Девка обыкновенная. В восьмом классе, что ли, учится. — Что же у них — ребят не нашлось? — изумилась Береговая. — Выпустить некого?
— Не знаю, — отмахнулся Ваня. — Или объявили вот, что учителям повышают на двадцать процентов зарплату. А цены на газ, на свет, скаканули на пятьдесят. Как вжарют! А сами думают: хай эти учителя попрыгают, попляшут, а мы — поглядим. Сами себе домов понастроили, а дальше — хоть трава не расти. Чубайс вон жметь, жметь электричество, потому как ему надо Израилю помогать, деньги давать — те ж постоянно воюют! У них же ничего нет — одни каменюки. Вот и поживи там попробуй! Они к нам и лезут…
Возмущенный Петруньков даже поперхнулся, закашлялся.
— Да… — растерянно сказала Береговая. — А тут сидишь с козами в лесу, ничего не знаешь…
А солнце светило так ярко, молодо, было тепло, но не жарко; и совсем по-другому жилось и чувствовалось среди обновленного леса, нежных запахов первых листьев, травы; и странно было думать, что и весна, и солнце пришли для всех — и для перезимовавших коз, и для рыжего бесстыжего Чубайса.
— Живут они там в Кремле и ничего не видят, — с горечью сказал Ваня.
— Ничего не видют, — вздохнула, подтверждая, Люба. — У меня вон че-то холодильник закряхтел, бросил морозить. Вчера коз подоила, утром глянула — молоко негожее. Почем счас холодильники, не знаешь?
— Не, у нас его давно уж нету. Перегорел. А Ленка Логунова казала, что она свой отключила. А че туда класть? Приходила к моей и говорит: мы холодильник под шкафчик приспособили — складываем валенки, калоши, ботинки — такое добро… — Роза, сатана, че тебя в кусты несет! Не, ты глянь, глянь куда они лезут! — Береговая ходко кинулась наперерез бодливой характерной козе, явно нацелившейся в лес. Любка вовремя заскочила наперед, пресекла опасный маневр. Роза упрямо, испытывающе поглядела на хозяйку и нехотя отвернула в сторону. Была она худой, длинноногой, шерсть клочками торчала на спине, боках… Здоровый козел в ошейнике поднял рогатую голову, дернул розовыми ноздрями и неожиданно тонко, громко заблеял.
— Ой, запыхалась! — доверительно сказала Любка, возвращаясь к Ване. — А че тут и пробегла — пять шагов. И давление, и сердце, никакого здоровья. А мне прошлый год Хомчиха рассказывала: «Пошла к врачам, а те кажут: у вас давление. Я как пришла домой, как взялась работать — ни давления, ничего». Ей семьдесят пять лет, а в дворе — ни одной соринки; угля и дров — лет на десять запасу.
Ваня невольно вспомнил про свой двор. Сколько там всего понастроено — и дом, и кухня, и сараи, и сараюшки, и баня летняя — все своими руками, и, считай, без подмоги. А как они фундамент с Танькой заливали — все кишки порвали… А хозяйство, а скотина, а огород?! А вёсны все долгожданней, но проходят они все быстрей, незвозвратней… Но вслух Ваня говорит другое:
— Слыхала, Люб, Гусаков Шевцову назад поставил.
— Он же ее снимал!
— Снимал, да, за воровство — она в районе два дома себе сделала. Гусакова как назначили, он пришел и выгнал ее. Свою бабу бухгалтером устроил. Та полистала, полистала эти бумажки и отказалась — там же все раскуплено. Клуб и то чеченцам продали под чайную, а за какую цену — неизвестно.
— А старый пред — на пенсию?

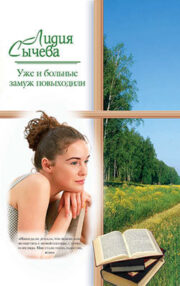
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.