Все же Дунина не любила, когда в магазине без дела толокся народ. Особенно по хорошей погоде. Скучно, начинают языками чесать и Дунину вовлекают. Продавщица в разговоре была ненаходчивой, сбивалась, и ей казалось, что ее авторитет от этого падает. Дунина приучила очередь сидеть на приступочках. Если дождь или холод — тогда, конечно, другое дело. А летом, при погоде, можно и на дворе побыть, на приступочках. Так-то.
Народ вынужденную праздность терпел не ропща. Отдых хоть какой-то: и людей увидишь, новости узнаешь. А больше — негде. Разве что на похоронах. Свадьбы нынче почти не гуляют. Кто и надумает жениться, распишутся в загсе, вещи перевезут, с близкой родней посидят, и — амба. Деловой народ — некогда гулять. А кому и денег жалко. А у кого — и нет их вовсе.
Ну, у Петра Парфенова Женька по всем правилам женился. Засватали — гуляли, и свадьба — два дня, как положено, сначала у невесты, потом — у жениха. Петр — смирный мужик, сам женился поздно, чуть ли не в сорок лет, баба ему Женьку родила, прожила год или два и умерла от рака. Парфен, как его между собой называли, перебивался, терпел, мальчонку растил в одиночку, больше никого не взял. Женька, правда, пер как на дрожжах, парняга — под два метра ростом. Школу кончил, в армию забрали, так командиры только и слали благодарности на военкомат и родителю — за воспитание воина-отличника. В районной газете «Заря изобилия» карточка Женькина была напечатана — десантник, в тельняшке, в беретке, лицо строгое, брови насуплены, на груди — парашютный значок, гвардейский. А вернулся домой — сразу видно, как был телком, так и остался. Наташка Собченко, сопливая девчонка, вчерашняя школьница, в два месяца его окрутила. Уже вот и свадьбу сыграли. Парфен, Ванька-Скалозуб, Степа Зобов, Семен с луга, Антон с велосипедом, бабы такого же возраста — Тимчиха, Хомчиха, Андреевна; древняя девяностолетняя старуха Марычева сидят на приступочках. Ребятня поодаль с визгом гоняет по пыли. Как только не уматываются по такой жаре?! Скучно, машины ниоткуда не видать. Ванька-Скалозуб, вытирая пот с черепа мятым грязным носовым платком, вкрадчиво спрашивает у Парфена:
— Петь, че ж молодые нынче делали?
Петр Парфенов — и вся порода их — ходит аккуратно, чисто. Без бабы столько лет прожил, а пиджачишко его затертый, но не засаленный, штаны — с подобием стрелок. Неторопкий он, Парфен, наивный и сроду ничего скрывать не умел. Отвечает:
— Да че ж… Женька поднялся в пять утра, завел «ЗИЛ» и уехал — у него наряд возить зеленку на ферму. Поле за Ельниками косят… Я, пока скотине подавал, гляжу — и Наташка встала. Говорю: Наташк, ты че будешь делать? «Борщ варить». Ну ладно. Картошки начистила, капусты кочан свернула с грядки, чугун взяла; я спрашиваю: тебе развесть огонь во времянке? «Не, я сама». Гляжу — развела. Вроде все собрала, засыпала как надо; я поливал; насос не заладил, разбирал да собирал. Времени порядочно прошло.
— Наташ, — говорю, — борщ готов?
— Не, не готов.
Опять я скотину обошел, у свиней почистил, уже припекало хорошо, уморился.
— Наташ, — говорю, — борщ готов?
— Не, — отвечает, — не готов.
Я прямо аж к чугуну подошел:
— Че ж оно такое? Он у тебя кипит?
— Кипит.
— Так, может, он готов?
— Нате, — говорит, — попробуйте, сами увидите, что сырой.
Я хлебнул — и правда: что-то не то. Так и ушел, она не сварила.
— Ты че ж, Петь, нынче и не ел? — ужасается одна из баб, Хомчиха.
— Не-а, — виновато-обиженно говорит Парфен.
Народ кто смеется, кто успокаивает:
— Подожди, научится.
— Молодая еще.
— К Женькиному приходу настряпает.
А Семен с луга советует:
— Сел бы, наелся сала с яйцами, и все дела.
Парфен оправдывается:
— Неудобно как-то отдельно. Баба в доме, семья.
— Семья, — поддевает Ванька-Скалозуб, — а папой она тебя называет?
Парфен смиренно признается:
— Никак пока не величает. А Женьку зато, — он подделывается под Наташкин ласковый голосок, — Женюся, Женечка; будто он пупсик какой. А сама, — и тут невольно выдает главную свою обиду, — дружила с другими, на моей же лавочке еще весной любовь крутила, а Женька явился с армии — прыг ему на шею…
— …И в дамки, — поддерживает его Степа Зотов.
— Ничего, — успокаивает Парфена Андреевна, с которой он когда-то, в молодости, лет сорок назад, гулял, — главное, чтобы они друг друга любили, и нам с ними тепле´ будет.
Неожиданно подает голос древняя старуха Марычева, про которую все думали, что она дремлет. — Пусть молодежь живеть, — скрипит Марычева, — у них свои понятия.
Тут уже ничего не прибавишь. А машины с хлебом все нет и нет.
…Дунина задумалась в пустом магазине. Сначала она смотрела сквозь мутное стекло на собравшихся вокруг Парфена стариков, пыталась прислушаться. Но звуки сюда, в скучную сумеречную прохладу, не долетали. Тогда Дунина загрустила. Она была некрасива, неловка, и никому, кроме очень пьяных мужиков, не нравилась; никто не пытался с ней шутить, заигрывать. Раньше она была молодой, ходила на танцы, на что-то надеялась; и в клубе, когда Женьку Парфенова провожали в армию, он, хмельной, с ней танцевал — девушки у него еще не было, а она решила его дождаться. И ей нетрудно было его ждать, мечтать о нем, быть ему верной. А он вернулся и даже о ней не вспомнил…
Тише, Миша!
Вот мы говорим: «Чечня! Чечня!» А дома — не Чечня?! Это ж поглядеть, как они тут живут — у каждого по три жены. И все тихо-смирно, никакого шума. Так, баба какая восстанет и все.
Взять Кашина, Мишку. На ком он только не женился и к кому он только не приставал! К некоторым — по два раза. То есть уже второй круг стал давать. А ничего в нем выдающегося, если присмотреться, нету. Щупленький, на личико унылый. Пьет сильно. Правда, разговорчивый и ворует здорово. А воруют они тут все — беспощадно. Кольку Крылова выгнали с нефтебазы, он устроился к хозяину на бензовоз. Бензин воровал, продавал, и на это пили. Лягут в топольках — он, Ванька Разумный, Телкин — и пошло дело. Люди огороды сажают, а они по кустам прячутся. Теперь че-то Кольки не видать — небось, хозяин выгнал. Оно ж надоедает, это воровство.
Да, а Мишка-тракторист кинет в кузов мешок зеленки, или муки, или семечек, или доску какую — все, что под руку попадется, — и к двору. Уже, конечно, в колхозе, хоть в АО, так не украдешь как раньше, но все-таки. И этот мешок или доску Мишка или пропьет, или подъедет с ними к свободной бабе. И любая примет, потому что у всех хозяйство, а чем кормить?! А тут мужик с трактором, добытчик.
Вот так Мишка кувыркался, кувыркался, а потом задержался на одном месте аж на год с лишним. Вроде, говорят, познакомился он с Надей на базаре или в магазине «Универсаме», лапши на уши навешал до плеч, так и поженились законно. А че, девка молодая, какие у ней мысли? Хоть умные люди и говорили ей: «Не ходи! Не ходи!» А она в одну душу: «Я Мишу люблю». Как будто другие, те, что советовали, никогда не любили. К любови голову бы надо прилагать, а не только другие части тела…
Жалко ее, конечно, Надю-то. Девка неплохая и рабочая. И на вид ничего, светленькая. А может, оно и лучше, что она замуж вышла, то хоть дите у нее есть; а то б впала в бесстыдство, вон, в районе ходят по рынку, завлекают торгашей, сиськи вывалили. Хотя теперь и детная баба до такого может дойти. При нашей жизни — запросто.
Да, а Мишка Кашин, он поначалу, женившись, очумел, что ли: и пить придерживался, и все домой, домой… А потом, когда Надя уж дите ждала, опять закуролесил, закрутил. Раскусил семейную жизнь. Свободы никакой, одни обязанности. Свободы нету, а любви-то у Мишки никогда и не было. А поживи так в четырех стенах, да каждый день одно и то же! Семья, почитай, расширенный монастырь. Мишка воспротивился — запил, загулял; Надя родила; Мишка ей специально стал нерву мотать, мол, дите не мое; Надя, дура, все терпела (а жили они в кухненке, Надины родители им купили); Мишка видит, что пронять ее ничем нельзя, завел трактор, кинул фуфайку в кабину и уехал. С чем пришел, с тем, как говорится, и ушел.
А новая кандидатура была у него давно намечена — Варька Дубова. Ну, старше она Мишки, так не в годах дело, а в умениях. А Варька столько пережила и перевидала, что скрутить какого-то Мишку ей в порядке вещей. Девок своих она замуж отдала, справила, хозяйство у ней — три быка да пять поросят (не считая птицы всяких видов), сама она доярка — много ли на горбу или на велосипеде унесешь?! А тут Мишка с трактором. Бабы Варькиному счастью завидовали:
— Варь, че ты его берешь, он же на пятнадцать годов моложе…
— Алка Пугачева с Киркоровым живут, а мне нельзя?
— Варь, ды Мишка ж пьеть…
— Да пусть пьеть! Я и сама выпить люблю!
Женщина она видная, привлекательная, зубов вставных спереди нету, и вообще, в силе. Жизнь показала, что не любовь Мишке нужна была, а руководство. А Варька, много пережившая и перетерпевшая, она не только Мишкой могла руководить, но и какой-нибудь нацреспубликой — Чечней там или Ингушетией. Она много раз на ферме хвасталась: «Дали б мне войско, верите, в две недели б война кончилась!»
И бабы верили — Мишку-то она скрутила! Ну, выпьет он на стороне, ну, может, подгуляет, а тянет-то все в Варькин двор. И у быков чистит, и у свиней. Варька пообещала Мишке, как сдадут мясо, справить ему зимнюю куртку кожаную, сапоги.
Но тут снова возникла Надя. Все за счастье свое билась. Схватила она дитя на руки, нарядила его, прибегла на машинный двор. Мишку перестрела. Раз перестрела, и два. Сначала говорила: вертайся, потом видит — дела не будет, стала требовать алименты. А какие алименты, если они неразведенные? А хоть и разведенные — зарплату то жомом дают, то комбикормом. Алименты — ведро жома! Мишка Наде примирительно сказал: «Расстанемся друзьями». — Это он в кино, что ли, каком видал. Ну она и ушла.

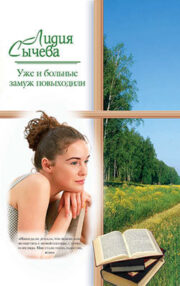
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.