— Раз уж мы поставили на карту честь и жизнь, — сказал он Медзани и Леонцио, своим сообщникам (и, надо сказать, подстрекателям), — надо ни перед чем не останавливаться и ставить на карту все.
Дерзкий замысел удался: он стал командовать пиратами, руководить ими, обогащать их и, стремясь сохранить среди них свой авторитет, который еще мог ему когда-нибудь пригодиться, отпустил их всех вместе с их главарем Гусейном, очень довольных его честностью и щедростью. С ними он повел себя, как настоящий венецианский вельможа, ибо получил достаточную долю общей добычи, чтобы проявить щедрость, да, кроме того рассчитывал воспользоваться долями ренегата, коменданта и своего помощника, которых все равно, по его мнению, нельзя было оставлять в живых, если сам он хотел жить.
Некая проклятая звезда руководила судьбой Орио во всем этом деле и покровительствовала его злосчастному успеху. Вы вскоре увидите, что адская эта сила еще дальше понесла его на своем огненном колесе.
Хотя Соранцо получил в четыре раза больше того, чего желал, все сокровища мира были для него ничто без Венеции, где их можно было растратить. В то время любовь к родине была настолько сильной, настолько живучей, что она цеплялась за все сердца — и самые низкие и самые благородные. Да тогда и не было особой заслуги в том, чтобы любить Венецию! Она была такой прекрасной, могущественной, радостной! Она была такой доброй матерью всем своим детям, она так страстно влюблялась в любую их славу! Венеция так ласкала своих победоносных воинов, ее трубы так громко воспевали их храбрость, она так утонченно, так изящно восхваляла их предусмотрительность, такими изысканными наслаждениями вознаграждала их за малейшую услугу! Нигде нельзя было развлекаться столь роскошными празднествами, предаваться столь восхитительной лености, до отказа погружаться в столь блестящий вихрь удовольствий сегодня, в столь сладостное отдохновение завтра. Это был самый прекрасный город в Европе, самый развратный и в то же время самый добродетельный. Праведники имели возможность творить там любое добро, злодеи — любое зло. Там хватало солнца для одних и мрака для других. Там, наряду с мудрыми установлениями и волнующим церемониалом для провозглашения благородных начал, имелись также подземелья, инквизиторы и палачи для поддержания деспотизма и утоления тайных страстей. Были дни для торжественного прославления доблести и ночи распутства для порока; и нигде на земле прославления не были более опьяняющими, а распутство — более поэтичным. Вот почему Венеция была естественной родиной всех сильных душ — сильных и в добре и во зле. Для всякого, кто ее знал, она становилась родиной, без которой нельзя обойтись, которую нельзя отвергнуть.
Потому-то Орио и рассчитывал наслаждаться своим богатством только в Венеции и ни в каком ином месте. Более того — он хотел наслаждаться им, сохраняя все привилегии, которые давали ему венецианское происхождение, родовитость и военная слава. Ибо Орио был не только корыстолюбив, он был к тому же и невыразимо тщеславен. Он шел на все (вам известны и его доблесть и его подлость), чтобы скрыть свой позор и сохранить славу храбреца. И странное дело! Несмотря на его явное бездействие в Сан-Сильвио, несмотря на то, что сами факты заставляли подозревать его в тяжких провинностях, несмотря на жестокие обвинения, которые висели над его головой, наконец несмотря на ненависть, которую он вызывал, среди всех недовольных, оставленных им на острове, не нашлось ни одного обвинителя. Никто не заподозрил его в том, что он принимал участие в морском разбое или хотя бы покровительствовал пиратам, и все странности его поведения после патрасского дела объясняли или извиняли горем и душевной болезнью. Далее самый великий полководец, самый храбрый воин могут после поражения потерять рассудок.
Поэтому Соранцо мог избавиться от всех неудобств приписываемой ему душевной болезни при ближайшем же значительном боевом деле, и так как эта болезнь, придуманная Леонцио отчасти, чтобы спасти его, отчасти, чтобы при случае погубить, оказывалась в его нынешнем положении самым лучшим объяснением, он решил извлечь из нее всю возможную выгоду.
Тут у него и возникла дерзновенная мысль немедленно плыть на Корфу к Морозини, чтобы и адмирал и все венецианское войско увидели его в состоянии глубочайшего отчаяния и душевного смятения, близкого к полному сумасшествию. Комедия эта была так живо задумана и так великолепно разыграна, что вся армия попалась на удочку. Адмирал оплакивал вместе с племянником гибель Джованны и под конец даже сам принялся утешать его.
Всем, кто знал Джованну Морозини, горе Соранцо казалось вполне естественным, даже священным; никто не осмеливался больше осуждать его поведение, и каждый опасался прослыть жестокосердым, если бы отказал в сострадании к столь ужасной беде. Целую неделю его охраняли, как буйно помешанного. Затем, когда рассудок, по всей видимости, начал к нему возвращаться, он стал выказывать такое отвращение к жизни, такое безразличие ко всему мирскому, что и разговоры заводил лишь о том, чтобы постричься в монахи. Вместо того чтобы взыскать с него за нерадивое управление островом и лишить военного звания, великодушный Морозини оказался вынужденным выказать ему родственную привязанность и предложить еще более высокую должность в надежде примирить его с воинской славой и тем самым с жизнью. Соранцо, решив про себя воспользоваться этим предложением во благовремении, сделал вид, что возмущенно отвергает его, и, придравшись к случаю, ловко расцветил свое поведение в замке Сан-Сильвио.
— Это мне — военные отличия?! Это мне — почести и фимиам славы?! — воскликнул он. — О чем вы думаете, благородный Морозини! Разве не кратковременный злосчастный приступ честолюбия загубил блаженство всей моей жизни? Нельзя служить двум господам: я создан был для любви, а не для славы! Что сделал я, прислушавшись к лживым посулам геройства? Я потревожил мир и доверие в душе Джованны, я оторвал ее от безопасного, спокойного, незаметного существования, я увлек ее в самое логово гроз, в тюрьму, повисшую между небом и морской пучиной, где вскоре ее здоровье было подточено. А при виде ее страданий и моя душа дрогнула, я утратил энергию, память, военный талант. Поглощенный любовью, мучимый страхом погубить любимую, я позабыл, что я воин, и ощущал себя только супругом и возлюбленным Джованны. Может быть, этим я обесчестил себя, не знаю. Не все ли равно? В душе моей нет места никаким сожалениям.
Вся эта гнусная ложь возымела такой успех, что Морозини стал любить Соранцо со всем пылом своей великой и чистой души. Когда ему показалось, что горе племянника несколько успокоилось, он пожелал отвезти его в Венецию, куда сам должен был отправиться по важным государственным делам. Он взял его на свою собственную галеру и во время путешествия не щадил благородных усилий, чтобы вернуть мужество и честолюбие тому, к кому относился как к родному сыну.
Корабль Соранцо, предмет его тайных забот, плыл вместе с кораблями Морозини и его свиты. Вы хорошо понимаете, что болезнь, отчаяние, безумие не мешали Соранцо ни на миг не спускать глаз с его дорогой, груженной золотом галеры. Наам, единственное существо, которому он мог доверять как самому себе, сидела на носу, внимательно следя за всем происходящим и на ее корабле и на адмиральском. Наам была погружена в глубокую печаль, но любовь ее вынесла все ужасные испытания. То ли Соранцо удалось обмануть ее, как и других, то ли подлинная скорбь, как воздаяние за ту, что он разыгрывал, овладела им, но Наам казалось, что из глаз его текут настоящие слезы, а приступы его бреда напугали ее. Она знала, что другим людям он лжет, но представить себе не могла, что и ее он захочет морочить, и поверила в его раскаяние. Соранцо понимал, как необходима ему преданность Наам. К каким только омерзительным ухищрениям не прибегал он, чтобы вновь подчинить ее своей власти! Он попытался было разъяснить Наам, что такое ревность у европейских женщин, и внушить ей посмертную ненависть к Джованне. Но это ему не удалось. Сердце Наам, простое и сильное, порой до свирепости, было слишком великодушным для зависти и мстительности. Божеством ее был рок. Она была беспощадна, слепа, невозмутима, как он.
В одном ему, впрочем, удалось ее убедить: в том, что Джованна угадала ее пол и сурово порицала своего супруга за двоеженство.
— В нашей религии, — говорил он, — это преступление, за которое карают смертью, а Джованна непременно пожаловалась бы верховным правителям Венеции. Мне бы пришлось потерять тебя, Наам. Я вынужден был сделать выбор и принес в жертву ту, кого меньше любил.
Наам ответила, что сама убила бы себя, чтобы только не видеть, как из-за нее гибнет Джованна. Но Орио отлично понимал, что если можно найти уязвимое место в душе прекрасной аравитянки, то именно такими выдумками. Для Наам любовь оправдывала все, что угодно. И, кроме того, у нее больше не было сил осуждать Соранцо, когда она видела его страдания, ибо он и на самом деле страдал.
О некоторых глубоко падших людях говорят, что они дикие звери. Это всего лишь метафора, ибо такие «дикие звери» — все же люди и преступления свои они совершают как люди, побуждаемые человеческими страстями и с помощью человеческих расчетов. Поэтому я верю в раскаяние, и на меня не производит впечатления горделивый вид убийц, равнодушно идущих на казнь. У большинства подобных людей много силы и гордыни, и если толпа не видит у них ни слез, ни страха, ни смирения, ни каких-либо других внешних проявлений, это не доказывает, что их душ не будоражит отчаяние и раскаяние и что внутреннее существо даже самого закоренелого на вид грешника не переживает таких терзаний, которые вышнее правосудие сочло бы достаточным искуплением. Что касается лично меня, то соверши я преступление, все мое нутро день и ночь жгли бы раскаленные уголья, но мне кажется, что я сумел бы скрыть это от людского взора и вовсе не считал бы, что оправдываюсь в своих собственных глазах, если бы смиренно склонял колени перед судьями и палачами.

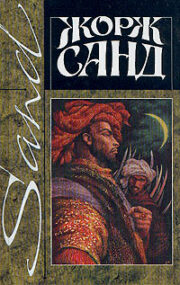
"Ускок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ускок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ускок" друзьям в соцсетях.