Глава XXXVI
Считая дни до приезда Платона Алексеевича, я ломала голову над тем, кто еще мог быть лично знаком с помещицей Самариной. В доме вся прислуга была заменена с тех пор полностью да не по одному разу, и, насколько я могла судить, о Самариной сохранилось больше легенд, чем фактов. Как-никак она умерла почти двадцать лет назад. Я до рези в глазах вглядывалась в портрет этой женщины, пытаясь найти сходство с собой, пробовала найти другие ее изображения – все безуспешно. Должно быть, еще мать Натали уничтожила из страха последние упоминания о ней.
На следующий день после посещения ювелира я поехала в церковь, надеясь, что хотя бы местный проповедник помнит Самарину, но мне снова не повезло: священник оказался совсем молодым, едва окончившим семинарию, и даже Эйвазовых знал еще плохо, не говоря уже о бывших хозяевах усадьбы. Однако он изо всех сил трогательно пытался мне помочь. Речь этого молодого отца была необыкновенно спокойной, убаюкивающей, а взгляд настолько ясным и чистым, будто этому человеку давно все было понятно и обо мне, и о нем самом, и обо всем этом суетном мире. Даже мне вдруг стало казаться, что неразрешимых проблем и впрямь не бывает, и – взялись откуда-то силы.
Не мудрено, что именно в тот день, в той церкви, меня посетили мысли, которые чуть позже и привели меня к решению моих загадок. Ведь все действительно очень просто – главное, понять, что послужило толчком для всей истории.
Разумеется, не одна только беседа со святым отцом помогла мне: священник отвел меня в подвальное помещение храма, где находился архив с рукописями столь древними, что и представить сложно – почти что ровесниками этого храма и города. Но меня интересовали гораздо более молодые записи – двадцатилетней давности.
Просидев над толстыми и неподъемными приходскими книгами не меньше трех часов – в подвальной прохладе, в полной тишине и словно бы изолированная от всего мира – я оторвала взгляд от строчек на церковно-славянском и произнесла хриплым после долгого молчания голосом:
— Этого не может быть…
Сердце снова забилось часто-часто – я почувствовала, как близка к разгадке. Вот только, уверена, не было сейчас в моих глазах ни хищного блеска, ни радости от решения сложной головоломки. Потому что, когда решение это касается тебя напрямую, начинаешь думать, стоило ли вообще что-то искать. Не лучше ли жить в счастливом неведении? О радости, какой бы то ни было, говорить не приходится.
По сути, и головоломка еще не была решена – мне предстояло увязать все факты воедино, поговорить с некоторыми людьми и тогда, быть может, я буду готова поделиться своими открытиями хоть с кем-то. В одном я была сейчас уверена: во-первых, некоторые безумные версии не такие уж и безумные, а во-вторых – мама говорила правду. У меня действительно есть дядюшка. Тото.
Платон Алексеевич прибыл в Псков два дня спустя. О приезде он известил меня телеграммой, но обитателей усадьбы я не посчитала нужным ставить в известность, что писала графу Шувалову. Хотя и большой тайны из этого не делала. В назначенное время я сидела в двуколке с нанятым извозчиком и, не отрываясь, смотрела на двери нужного вагона.
Когда Платон Алексеевич, наконец, показался в дверях, я едва совладала с собой, чтобы не встать порывисто и не броситься тотчас к нему. Разумеется, я все равно подойду, но прежде хотела унять бешено стучащее сердце.
Он был все таким же, каким я видела его в последний раз. Удивительно, я знала Платона Алексеевича почти десять лет, и за эти годы он не менялся совершенно: седые до белизны волосы, заостренные строгие черты; самым ярким пятном на его всегда лишенном эмоций лице были глаза – густо-синего цвета, молодые. Но глаза эти, тем не менее, никогда не выражали его мыслей – улыбались губы, хмурились брови, но глаза все время оставались беспристрастными. Попечитель мой для его возраста был человеком очень подтянутым, высоким и сильным. Он не был, несмотря на хорошее телосложение, большим франтом, мог годами, невзирая на моду, носить один и тот же фасон сюртуков, и трость в его руке всегда одна и та же – лакированная, тяжелая, с массивной бронзовой ручкой – была неизменным его атрибутом.
Сейчас, стоя на перроне и деловито натягивая перчатки, пока его денщик спускал багаж, он обвел медленным взглядом привокзальную площадь и безошибочно узнал меня, хотя мое лицо снова было укрыто за густой вуалью, да и черных траурных платьев, как сейчас, я никогда при нем не носила. Однако взгляд Платона Алексеевича остановился на мне – стал отчего-то еще суровее, чем обычно, а потом он неспешным прогулочным шагом направился к моей двуколке.
— Спасибо, что приехали, Платон Алексеевич. Как добрались? - я привычно подала ему руку, но робела, глядя в синие глаза. – Я на извозчике, он отвезет вас в хорошую гостиницу.
— Спасибо, добрался неплохо.
Платон Алексеевич говорил сухо и по-французски. Он всегда разговаривал со мною наедине только по-французски. Сейчас он задержал мою руку в своей куда дольше, чем было нужно, и неотрывно смотрел мне в глаза, словно этой вуали не существовало. И, хотя по взгляду его как всегда невозможно было понять, о чем он думает, мне казалось, что мои мысли он читает словно открытую книгу. Потом он чуть сжал мою руку и погладил пальцы, добавив несколько мягче:
— Здравствуй, Лиди. Я беспокоился, зря ты уехала из Петербурга так внезапно.
Лучше бы он не говорил со мной так мягко. Зачем? Как он может после того, что сделал с моими родителями, после того, как оставил меня сиротой – так говорить со мной? Быть ласковым и жалеть меня! И еще горше мне было оттого, что кроме этого человека никто в целом мире не станет меня ни жалеть, ни защищать.
Я знала, что должна ненавидеть этого человека, но – не могла…
— Я не ждала, что вы приедете так скоро, - заговорила я несколько резко, потому что голос задрожал – то ли от волнения, то ли от жалости к самой себе. – Ведь вы же так заняты всегда. Если честно, я не ждала, что вы вообще приедете. Вы не обязаны были. Зачем вы возитесь со мной?
— Лукавишь, девочка, - он прищурился – кажется, что-то в моих словах его развеселило, - ты отлично знала, что я приеду – иначе бы не писала.
Он действительно знал меня слишком хорошо, будто наперед догадывался обо всем, что я скажу или сделаю. Вот и сейчас, едва я успела понять, что я ужасно скучала по этому человеку, он торопливо поднялся в двуколку и сжал мою руку еще крепче:
— Ну-ну, малышка, все будет хорошо – сейчас приедем в гостиницу, и ты мне расскажешь все по-порядку и не спеша…
Мне как всегда не пришло в голову возражать ему. Разумеется, девушке совершенно недопустимо подниматься с мужчиной, даже пожилым, в его комнаты, но лицо мое по-прежнему укрывала вуаль, а до того, за кого меня примут, мне сейчас не было дела. Платон Алексеевич крепко держал меня под локоть, будто защищая от чужих взглядов, и скорым шагом вел через холл, но лишь когда дверь номера закрылась, и он отослал денщика, я почувствовала себя несколько свободней.
Платон Алексеевич первым делом опустил портьеры в гостиной, где мы находились, обошел все комнаты, заглянул за каждую дверь и даже в шкафы – меня это не удивляло, я невозмутимо снимала шляпку.
— Теперь я точно вижу, что писала ты мне не просто так, - сказал он, увидев мое лицо без вуали, - что случилось? Ты… похудела очень.
А я подумала, что, наверное, не только похудела, но и подурнела, и глаза запали от постоянного недосыпания, и цвет лица не самый здоровый. Все эти дни я старалась причесываться и одеваться с обычной аккуратностью, но отражение в зеркале нравилось мне все меньше.
— Отчего вы никогда не говорите со мной по-русски? – спросила я вместо ответа. – Потому что когда-то давно, в детстве, я отказывалась разговаривать со следователями на этом языке? Вам об этом доложили, и вы решили не испытывать судьбу. Поэтому, или есть другие причины?
Он не ответил, только смотрел на меня тяжело и, кажется, осуждал за несдержанность. Но я горячилась еще больше:
— И почему из всех вещей мамы вы привезли мне одну лишь эту брошь?! Это ведь вы мне ее привезли, Платон Алексеевич! Вы! Так заберите ее назад – она не нужна мне!..
Я дрожащими руками принялась расстегивать сумку, вынула брошь и в сердцах швырнула ее ему под ноги. И тут же пожалела об этом – бросилась было подобрать, но он опередил меня, взяв брошку сам.
— Я уже рассказывал тебе, Лиди, - заговорил он тяжело и через силу, не сводя глаз с янтарного украшения, - что остальные вещи твоей матери мне вывезти из Франции не позволили.
— А брошь позволили?! – все не унималась я, уже откровенно рыдая. – Или вы не спрашивали позволения, потому что сами же ее и подарили маме. Дядюшка Тото! Можно мне вас так называть?!
Я разрыдалась пуще прежнего и, прижав к лицу руки, попыталась отвернуться, однако, и моргнуть не успела, как оказалась в объятиях Платона Алексеевича. Он прижимал мою голову к плечу и гладил по волосам:
— Ну-ну, Лиди. Ты умница, девочка моя, я знал, что когда-нибудь ты обо всем узнаешь, и знал, что тебе будет больно. Но ты поняла, должно быть, почему я молчал обо всем. Слишком многое пришлось бы объяснять и раскрывать другим, признай я тебя своей племянницей. А раскрывать этого нельзя, Лиди, ни в коем случае нельзя.
— Я одного лишь не понимаю, - оторвала я голову от его плеча и продолжала с не меньшим отчаянием, - если вы так любили вашу сестру, мою мать, то отчего не смогли ей простить того, что она вышла замуж за француза? Почему нельзя было просто оставить ее в покое?
Он вдруг за подбородок приподнял мою голову и посмотрел столь серьезно, что я даже перестала плакать. Он как будто имел в виду нечто другое, когда говорил.
— Так ты думаешь, я причастен к их… смерти? - На лице Платона Алексеевича мелькнула растерянность – никогда я его таким не видела. – И как давно ты так думаешь?

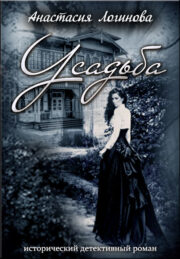
"Усадьба" отзывы
Отзывы читателей о книге "Усадьба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Усадьба" друзьям в соцсетях.