Глава XXI
По дороге я несколько обогнала Андрея и вошла в дом одна. Меня встретила Даша и тут же начала причитать по поводу моего перепачканного платья – я же, не слушая ее, поискала глазами и, пройдя в гостиную, увидела накинутый на спинку стула в гостиной черный мужской плащ. Приблизилась и провела по нему рукой, чтобы удостовериться, что плащ сухой, и им сегодня едва ли пользовались.
— Андрей Федорович утром приготовили для прогулки, да позабыли надеть, - сказала Даша, заметив мой интерес.
Я поспешно отошла, понимая, что веду себя глупо, и опять подозреваю людей Бог знает в чем.
— Натали уже вернулась? – обернулась я к Даше. – Она у себя?
— Да, барышня вернулись: очень уставшие были, переоделись, приняли ванну горячую и теперь, должно быть, спят, - подробно рассказала горничная. А потом не выдержала и спросила: - уж такие измученные были Наталья Максимовна, голубушка наша… что там, в лесу, приключилось, Лидия Гавриловна, а?
В глазах Даши горело любопытство, которое она даже не пыталась скрыть.
— Ничего особенного, - отрезала я, - мы просто заблудились. Еще кто дома есть?
— Ильицкие оба на веранде чай пьют, - начала перечислять Даша, еще надеясь, кажется, что я расскажу что-то интересное, - Лизавета Тихоновна тоже, вот, вернулись недавно – у себя заперлись…
Дальше я уже не слушала, а, поблагодарив девушку, поспешила на второй этаж. Даша сказала, что Натали спит, но я все равно отыскала ее комнату. Дверь была не заперта, и я тихонько вошла – Натали и правда спала. Однако едва я приблизилась, чтобы поправить ее одеяло, так как жгучее чувство вины все еще мучило меня, она открыла глаза – увидела меня и улыбнулась сонно:
— Лиди… слава Богу, что ты нашлась. Ты прости меня, что убежала и тебя бросила. Посиди со мной немножко, ладно?..
Я согласилась было, но, только присела возле нее, как поняла, что она снова спит. Я поцеловала подругу в лоб и, бесшумно двигаясь, ушла.
Даша приготовила для меня горячую ванну, за что я была ей благодарна, потому как действительно совершенно продрогла в своем вымокшем платье. Окончательно согревшись, я лежала в теплой мыльной воде, наслаждаясь тишиной купальни. Мысли мои текли плавно и неторопливо. Я пыталась решить, как мне дальше вести себя с madame Эйвазовой – я видела ее за ее странным занятием, и она знает, что я ее видела. Спросить у нее прямо? Так она уже лгала мне и довольно убедительно – с чего бы ей в этот раз говорить правду? Рассказать обо всем кому-нибудь? Да, наверное, так будет правильнее… Я все еще не предполагала, что этой женщины стоит опасаться всерьез – не верила я в разного рода магию – но все же ее домашние должны знать, с кем имеют дело.
Только нужно сперва все же дать Эйвазовой хотя бы попытку объясниться: я решила, что переговорю с нею, как только появится возможность, а дальше буду действовать по обстоятельствам. И Натали уговорю молчать пока что – хотя это будет нелегко…
Еще я размышляла над тем, как вести себя с Ильицким после вчерашнего. Все же Андрей прав – он оскорбил меня. Но я не сдержала улыбки, вспомнив вчерашний свой танец с частушкой – славно я утерла ему нос! Наверное, на этом нужно и прекратить нашу глупую вражду, тем более что я уже сказала Андрею, что простила Ильицкого. Кроме того, Андрей поведал мне сегодня о своем друге несколько занимательных историй, которые, признаться, заставили меня посмотреть на Евгения Ивановича немного по-другому.
Ну, во-первых, и впрямь глупо ожидать, что человек, воспитанный такой женщиной, как Людмила Петровна, будет иметь золотой характер: у Ильицкого были все шансы вырасти в «маменькиного сына», за коего мы с Натали и приняли его поначалу. Однако последующая армейская жизнь сделала перегиб в другую сторону, и Ильицкий вырос в человека до крайности циничного, черствого и едва ли способного к сочувствию.
К тому же дурной характер вполне мог передаться Ильицкому по наследству. О матушке его и говорить не стоит, но и батюшка, на которого, судя по всему, Ильицкий похож гораздо больше, чем на мать, человеком был сложным…
В этот момент я призадумалась, потому как Ильицкий действительно совершенно не был похож на мать: все Эйвазовы имели серо-голубые глаза, светлые с золотым отливом волосы и тонкие черты лица; Ильицкий же был смуглокожим и темноволосым, а глаза его были темно-шоколадного цвета. Порой я ловила себя на том, что говорю ему какую-нибудь колкость лишь для того, чтобы он взглянул на меня этими глазами, и я могла убедиться, что они действительно настолько черные, и это не тень из-под его вечно нахмуренных бровей.
Вот разве что ростом и телосложением он пошел в мать – но был не полным, а, напротив, очень подтянутым. Я вспомнила, как играли его мышцы под белоснежной сорочкой в то утро, когда мы спорили о Крымской войне, и, не сразу очнувшись, поняла, что окончательно потеряла нить мысли…
Так вот, с родителями Евгению Ивановичу вообще мало повезло. Батюшка его, Иван Ильицкий, был дворянского происхождения, причем дворянином родовитым и знатным. Однако чрезвычайно подверженным слабостям, наиболее губительными из которых оказались азартные игры. В результате к сорока годам он обнищал настолько, что, когда Максим Петрович Эйвазов, старый его знакомец, предложил ему взять в жены свою сестру – девицу двадцати пяти лет, не блещущую ни красотой, ни воспитанием, но зато имеющую более чем приличное приданое – Ильицкий-старший был счастлив невероятно.
Женитьба, как и следовало ожидать, папеньку Евгения не образумила, и следующие шесть лет он большую часть времени проводил в Петербурге, вдали от семьи, занимаясь тем, что проматывал приданое супруги. Длилось это до тех пор, пока там же, в Петербурге, одной студеной и промозглой зимой он не умер скоротечно от воспаления легких, оставив жену и малолетнего сына уже на полном попечении Эйвазова.
Еще я, к немалому своему удивлению, узнала от Андрея, что романтическая история, предшествующая отъезду Ильицкого в армию, все же имела место быть. Оказывается, он даже был помолвлен однажды, а невестой его была Нина Гордеева. Тоже смолянка, между прочим, и я даже имела удовольствие ее знать, хотя я только поступила в Смольный, когда Нина уже его оканчивала.
— Ильицкий долго ее добивался, - рассказывал мне с ностальгической улыбкой Андрей пару часов назад, - был страшно влюблен, но она, да и родители ее, из тех людей, которые едва ли что-то сделают без выгоды для себя. Эта особа почти год морочила Ильицкому голову – все же он был в числе лучших выпускников Константиновского училища и, вероятно, девицам было приятно получать от него знаки внимания.
Я не сдержала улыбки, представив Ильицкого, раздающего дамам знаки внимания. А Андрей, не замечая этого, продолжал:
— Именно ради нее он и поступил в столь пафосное учебное заведение, как Николаевская академия Генштаба, а не начал военную карьеру сразу после училища, как планировал. И все же Евгений не имел тогда ничего за душой, что делало его женихом совершенно бесперспективным в глазах Гордеевых. Однако когда до семьи Нины дошли слухи, что дядюшка Евгения со стороны отца скончался и оставил ему довольно приличное состояние и дом в Петербурге – их отношение к Ильицкому живо переменилось, в сердце прекрасной Нины проснулась любовь, и она дала согласие на брак. Впрочем, с очаровательной оговоркой, что о помолвке их пока не будет сообщаться в Свете – Ильицкого это не насторожило, он был влюблен и был готов ждать, сколько придется.
Стоит ли говорить, что не прошло и двух месяцев, как Гордеевы подыскали жениха более перспективного, чем Ильицкий – юного графа Травкина, недавно осиротевшего, глупого и влюбленного. Вероятно, Гордеевы решили, что лучшей партии, чем Травкин они для дочери не найдут; да и самой Нине на тот момент было уже двадцать, и она, увы, не молодела. Да и Травкин мог в любой момент прозреть и передумать жениться, потому об этой помолвке было сообщено во всех газетах и со всевозможным пафосом. Из газет о том узнал и Ильицкий, находившийся в это время на учениях под Москвой.
— И что же сделал Евгений Иванович? – спросила я, заинтригованная этой историей.
— Да, собственно, он очень стойко принял эту новость – в тот же вечер поехал к актрисам… в смысле, в театр – спектакль поехал смотреть. Он даже не дрался с Травкиным, хотя некоторые наши друзья по корпусу считали это прямо-таки необходимым. Евгений же только усмехнулся в обычной своей манере и сказал, что у бедняги Травкина и без него будет достаточно поводов расчехлить пистолеты. А через месяц он бросил академию и уехал в часть.
Признаться, эта история произвела на меня немалое впечатление. В первую очередь потому, что с Ниной я была знакома. Мне, девятилетней тогда девочке, она казалась невероятно красивой и неземной – любимица учителей, круглая отличница и лучшая во всем, за что бы ни взялась. Очарование ею было развеяно однажды, когда Нина сперва вызвалась выполнить какую-то большую работу по вышивке, за что ее снова начали восхвалять учителя и даже освободили от занятий. Нина выпросила себе помощниц с младших курсов, в числе которых оказалась и я, а после, сбросив всю работу на нас, она засела в уголке с подругами и громко, никого не стесняясь, а как будто даже гордясь, обсуждала письмо от un de ses garçons[29], как она называла своих поклонников. Помню, что, слушая ее весьма вольные замечания, я тогда остро жалела автора письма.
Забавно, ведь вполне возможно, что это было письмо именно от Ильицкого.
Переодевшись после ванны и приведя в порядок волосы, я набралась храбрости настолько, что отправилась на поиски Евгения Ивановича, твердо решив вызвать его на серьезную беседу и выяснить, наконец, за что он меня ненавидит и постоянно изводит.
В конце концов, если Андрей с ним дружит, то, вероятно, в Ильицком и впрямь есть что-то хорошее… Он образован все же, хотя его воззрения заставляют противиться все мое существо. Он наблюдателен и видит причинно-следственную связь, что я обычно крайне ценю в людях. Он циник, каких мало – это да, но он не жесток и не подл. Мне приходилось, увы, встречать подлецов в своей жизни, и я точно могла сказать, что Ильицкий на них не похож. Мне вспомнилось, как он укрывал Натали от дождя своим сюртуком; как ненавязчиво, но стойко не позволял матушке своей третировать Эйвазову по любому поводу. И то, как почтителен и терпим он всегда с матерью. Со многими он бывал груб – даже с Мишей и с Лизаветой Тихоновной временами, но с матерью – никогда. В его к ней отношении было даже что-то… трогательное.

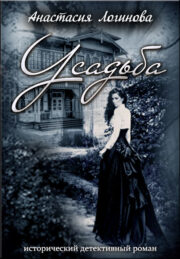
"Усадьба" отзывы
Отзывы читателей о книге "Усадьба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Усадьба" друзьям в соцсетях.