Мерседес поспешила оттащить пса в сторону, что удалось ей ценой больших усилий. Супруг ожег ее наглой ухмылкой.
– Не вздумай положить его в нашу кровать, когда я приду к тебе вечером. И не надейся, что он откусит мне то, чем я привык гордиться…
Пес не понимал, о чем разговаривают люди. Ему казалось, что раз мужчина улыбается его хозяйке, то все в порядке.
Между тем Лусеро продолжал свою унизительную для доньи Мерседес речь:
– Прежде чем мы займемся любовью в супружеской постели, нам следует обговорить некоторые условия. Мы сделаем это за совместным ужином, наедине, с глазу на глаз.
Она устремилась от него прочь вместе с собакой, а он проводил ее поспешное отступление издевательским взглядом.
И еще послал ей вслед такие слова:
– До ужина веди себя прилично, как примерная супруга! Что будет после ужина – трудно сказать! Но прислуге незачем знать о наших развлечениях. И поторопи кухарок, я оголодал, моя милая…
Каждое слово, брошенное ей в спину, было подобно свинцовой пуле. Так расстреливали хуаристы аристократов, а он – ее, свою супругу, – унизительными насмешками.
Мерседес оттолкнула от себя Буффона и прогнала его на кухню, где пса ждали вкусные обрезки от готовящихся праздничных кушаний, а сама прислушалась к скрипу ступеней под тяжестью шагов дона Лусеро.
Он поднялся на самый верх и задержался у двери, ведущей в комнату, где в добровольном заточении коротала свои последние дни донья София, чья ненависть к рожденному ею сыну пересиливала материнскую любовь.
Сейчас она была стара и беспомощна, и ни к чему было сводить с ней счеты. При мысли об этом его лицо осветилось снисходительной усмешкой. Чем мать могла повредить своему взрослому сыну? Она уже сделала все, что было в ее силах. Но однако запас яда в ней еще оставался. Переступить порог означало ввязаться в новое сражение, но ему ли, столько раз рисковавшему жизнью, опасаться какой-то злобной фурии?
Лусеро постучался, и ему ответил слабый старческий голос – ему разрешали войти.
Комната напоминала склеп, и дух смерти витал над всей обстановкой. Темно-вишневого цвета бархатные портьеры загораживали окна от солнечного света. На стене в сумраке едва поблескивало огромное серебряное распятие. По углам комнаты высились вырезанные из дерева статуи святых, а пространство между ними занимали живописные полотна на библейские сюжеты.
Среди всего этого великолепия размещалась кровать, инкрустированная слоновой костью, с бархатного полога которой ниспадали плотные кружевные занавеси, оберегающие от москитов.
Но вряд ли москиты покусились бы на лишенное крови существо, возлежащее на этой кровати.
Донье Софии исполнилось лишь пятьдесят два, но выглядела она глубокой старухой – иссохшая, ни куска плоти на обтянутых кожей костях.
Пламя свечей, горящих повсюду, хоть немного оживляло погребальную атмосферу этой комнаты.
Донья София лежала на спине. Ее четкий кастильский профиль был устремлен к небесам, скрытым от нее расписанным местным художником потолком, где среди пышных облаков резвились пухлые ангелы.
Глаза, пораженные бельмом, ничего не выражали, а насупленные черные брови, которых почему-то не тронула седина, казались приклеенными к алебастровой посмертной маске.
Маленькая головка женщины не шевельнулась, лишь тонкие губы пришли в движение, и изо рта вырвались едва слышимые, но вполне разборчивые слова.
– Значит, ты возвратился домой… – произнесла мать, когда сын, откинув полог, возник перед ее глазами. – …И займешь место своего папаши… – добавила она уже с усилием, потому что длинные фразы давались ей нелегко.
– Я никогда не заменю вам дона Ансельмо, возлюбленная мамаша. Его место возле вас будет вечно пустовать. – Явное издевательство в голосе сына заставило вздрогнуть даже это полуживое тело.
– Свое место в аду рядом с отцом ты обеспечил себе еще в юности. Какие же грехи ты добавил к своему длинному списку, сражаясь за иностранцев, заливших кровью твою родную Мексику?
– Тебе больше нравится индейский ублюдок Хуарес, чем благородный Габсбург, император Максимилиан? – Лусеро изобразил на лице невероятное изумление. Он актерствовал в этот момент и получал от этого удовольствие.
– Странный вопрос, недостойный твоего ума, сын мой. Ты поглупел на войне. Как я могу относиться к нищим негодяям, покусившимся на собственность Святой католической церкви? Каждую минуту из того скудного срока, что мне отпущен Богом, я молюсь, чтобы они провалились в преисподнюю. Но зачем здоровые мужчины, такие, как ты, позвали на помощь французские штыки? Неужели у вас не хватило бы сил защитить себя?
Ее нервные костлявые пальцы перебирали лазурные камни и бриллианты ожерелья вокруг исхудавшей шеи, словно эти драгоценности душили ее.
– У нас не было выбора – или Хуарес, или Максимилиан.
– Или Господь! – вздохнула старая женщина. – Он накажет вас всех за политические игры. А я, надеюсь, скоро встречусь с Ним и задам Ему вопрос – исполнил ли свой долг мой сын?
– Я сам знаю, в чем заключается мой долг, – с вызовом проговорил Лусеро, а старуха тотчас же возразила:
– Ни ты, ни твой покойный отец не соблюдали своих обязанностей. Вам даже неведомо, что такое долг.
– Разве прегрешения родителей ложатся позором и на детей?
Донья София зашлась в приступе кашля, вытерла губы батистовым платком и ответила:
– Твои грехи неисчислимы, и ты сам об этом знаешь. Оставив жену вскоре после брачной ночи, ты умчался на войну – и не ради славы, богатства и восстановления справедливости, – нет, лишь для того, чтобы резать горло ближним своим…
Лусеро насупился, выслушивая упреки матери.
– Я исповедуюсь сегодня и получу отпущение грехов от отца Сальвадора.
– Вижу, ты не раскаялся! – возвысила голос донья София. – Какой падре отпустит тебе твой основной грех!
– Какой же?
– Ты даже не заронил семя в лоно своей венчанной церковью супруги и лишил Гран-Сангре наследника. Ты негодяй, ты чертополох на нашем поле, и я умру с этой мыслью.
Проклятия матери вызвали у него совершенно неожиданный отклик. Ему вдруг вспомнилась золотая корона волос на голове Мерседес и ее бурно вздымающаяся в волнении высокая грудь.
– За наследником дело не станет, – ухмыльнулся он. – Котенок превратился в очаровательную кошечку.
– Примет ли она тебя? За четыре года твоего отсутствия Мерседес многое узнала и имеет право отказать тебе в близости. Ты поступил и подло, и опрометчиво, покидая ее на долгое время.
Донья София закрыла глаза, и это означало конец разговора. Лусеро насторожился:
– На что ты намекаешь?
Ответа он не получил в сердцах, даже не запечатлев на восковом лбу матери сыновьего поцелуя, прошагал обратно к выходу и громко захлопнул за собой тяжелую дубовую дверь.
Он тут же представил себе, как комната после его ухода превратилась в темный склеп и как донья София лежит, неподвижная, на кровати, словно в гробу, и требует у Бога покарать нечестивцев – и супруга своего, и непутевого сына.
Будто подхваченный порывом ветра, Лусеро устремился в свои покои, но на пути ему попалась сгорбленная иссохшая фигурка, чья серебряная седая тонзура светилась даже в темноте, как нимб вокруг облысевшего черепа. Черная одежда священника сливалась с царящим в коридоре мраком, и казалось, что голова сама по себе плывет по воздуху отдельно от тела.
– Вашим неожиданным появлением, падре Сальвадор, вы могли бы напугать любого праведника, а не то что меня, грешного. Что заставило вас блуждать здесь в темноте? Ждете ли вы мгновения, когда моя матушка расстанется с жизнью, и желаете спасти ее от когтей адских гарпий, что, по-моему, вам не удастся? Или мое возвращение лишило вас покоя, и вы приготовили бич Божий, чтобы отхлестать меня?
Белесые, словно ледник, сползающий с гор, глаза священника уставились на дона Лусеро. Ярость, сжигающая падре, не могла растопить этот с годами накопившийся лед.
– Я должен был догадаться, что никакое пребывание вне дома не исправит твой характер. Ты остался таким же бесчувственным и грубым, каким был раньше, дон Лусеро Альварадо.
– Надеюсь, Господь позволит мне остаться таковым до самой кончины, – мрачно усмехнулся хозяин поместья.
– Твой отец уже расплатился за свои прегрешения. Теперь его судит иной, Высший Суд. Твоя мать тоже скоро предстанет перед ним…
Было очевидно, что, по мнению падре Сальвадора, обоим родителям дона Лусеро уготовано место в аду.
– Ты мог бы облегчить ее кончину, выказав ей сочувствие и исполнив некоторые ее желания. Это твой христианский долг, – сказал падре.
– Нечего болтать о Христе, которого я распинал много раз в церквах всех сожженных мною деревень, верных хуаристам. Но о сочувствии к матери, произведшей меня на свет и возненавидевшей свое дитя еще до зачатия, я не хочу слышать. Я был малым ребенком, когда впервые понял…
– Я помню того малого ребенка… – прервал его отец Сальвадор. – Тот ребенок украл из церкви весь запас священного вина и явился на занятия в воскресной школе пьяным…
Собеседник падре не помнил этого эпизода из своего раннего детства, но напоминание о нем развеселило его:
– Это тогда я запустил в твою голову молитвенником?
– Это произошло спустя две недели, – печально произнес падре. – Я был вынужден наказать тебя…
– Да, конечно, помню. Ты схватил меня за горло и тыкал лицом в какую-то вонючую медную чашу…
– В которую бедные прихожане клали заработанные тяжким трудом монеты, а ты их выкрал…
– То же самое сделал наш император Максимилиан, а до этого его покровитель – император французов Наполеон Третий.
– И ты выступаешь на стороне подлого чужеземца?
– А чем ты, бескорыстный святоша, набьешь свое тощее брюхо, если хуаристы отнимут монастырские земли и твои привилегии?
От такого кощунственного заявления у священника перехватило дыхание. Пару минут ему потребовалось, чтобы прийти в себя и понять, что дон Лусеро едко издевается над ним, а следовательно, и над всей католической церковью.

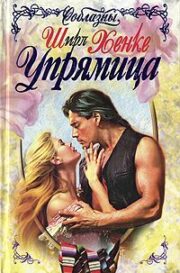
"Упрямица" отзывы
Отзывы читателей о книге "Упрямица". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Упрямица" друзьям в соцсетях.