– Святого отца? – хохочет Генрих. – Как папу римского?
– Как папу римского, – спокойно повторяю я. – Папа римский же на самом деле всего лишь епископ Римский. Он – глава Церкви Италии. А разве вы – не глава Церкви Англии? Разве вы не выше всех служителей Церкви этого королевства?
Генри поворачивается к Гардинеру.
– А ведь Ее Величество дело говорит. Ты как думаешь?
Епископ находит в себе силы на слабую улыбку.
– Всевышний благословил Ваше Величество женой, любящей ученые беседы, – отвечает он. – Кто бы мог подумать, что женщина способна рассуждать? Да еще с мужем, таким ученым человеком, как вы, Ваше Величество! И правда, эта женщина вас укротила!
Король велит мне сидеть рядом с ним после ужина, и я воспринимаю это как знак его расположения. Доктор Уэнди готовит ему снотворное, а приближенные собрались вокруг его передвижного кресла. Стефан Гардинер и старый Томас Говард стоят по одну сторону, я с фрейлинами – по другую, и у меня возникает странная фантазия, что сейчас кто-нибудь из нас схватится за кресло и примется тянуть его к себе. Я рассматриваю лица придворных, их напряженные улыбки и понимаю, что все они так же устали и нервничают, как и я. Все мы ждем, когда король положит конец этому вечеру, чтобы распустить нас на ночной отдых. На самом деле многие из нас надеются и на более длительный срок покоя. Кто-то ждет его смерти, и все понимают, что тот, кто выиграет бой за изменчивую благосклонность короля, окажется у власти со следующим правителем. Королевский фаворит унаследует лучшие места у трона, когда настанет время правления Эдварда. Как-то мой муж описал этих людей как псов, ожидающих королевской подачки, и в первый раз я вижу их именно такими. Мало того, я понимаю, что сама я – одна из них. Мое будущее зависит от его милостей так же, как и их, и сегодня я совсем не уверена в том, что могу рассчитывать на эту милость.
– Сильно ли болит сейчас? – тихо спрашивает короля доктор Уэнди.
– Невыносимо! – рявкает король. – Доктор Баттс никогда бы не допустил, чтобы боль была такой сильной.
– Вот, это поможет, – кротко говорит доктор и протягивает ему стакан.
Король с недовольным видом берет его и выпивает до дна. Затем оборачивается к пажу и бросает:
– Сладостей! – Паренек бросается к буфету и подает королю поднос с засахаренными фруктами, сливами и яблоками в глазури, марципанами и пирожными. Король набирает целую горсть и отправляет их в рот с гнилыми зубами.
– Господь свидетель, в Англии было куда веселее, пока в каждой деревне не появилось по своему проповеднику, – говорит Томас Говард, продолжая какую-то сложную мысль.
– Но в каждой деревне и так был свой священник, – возражаю я. – И у каждого священника – десятина, у каждой церкви – часовня, где заказывали заупокойные, а в каждом городе – монастырь. Тогда было даже больше проповедей, чем сейчас, только делалось это на языке, который никто не понимал, и за бо́льшие для бедняков деньги.
Томас Говард, тугодум и обладатель злобного и взрывного нрава, насупился и не стал скрывать своего несогласия.
– И чего им там надо понимать? – упрямо бурчит он, не сводя взгляда с короля и видя, как огромное круглое лицо поворачивается то в одну сторону, то в другую. – Я вообще не беспокоюсь о дураках и женщинах, считающих себя образованными. Как та глупая девица, которую мы видели сегодня.
Я не смею назвать Анну по имени, но я могу защищать ее убеждения.
– Но Господь наш говорил простым языком с простым людом, рассказывая им истории, которые они могли понять. Почему мы не можем поступать так же? Почему им нельзя читать истории, написанные простым языком, словами Сына Божьего?
– Потому что они не замолкают! – внезапно взрывается Томас Говард. – Потому что они не умеют читать и думать молча! Каждый раз, когда я проезжаю мимо собора Святого Павла, там их с полдюжины, и каждый вещает! Сколько мы будем терпеть это?
Сколько еще они будут там галдеть?
Я смеюсь и поворачиваюсь к королю.
– Но Ваше Величество не видит это в таком свете, я в этом уверена! – говорю я с напускной уверенностью. – Ваше Величество любит науку и почтительное обсуждение духовных тем.
Однако лицо Генриха остается недовольным.
– Сладостей! – говорит он еще раз пажу. – Дамы, можете нас оставить. Стефан, ты останешься со мною.
Это было грубо, но я не собираюсь показывать Стефану Гардинеру или этому идиоту Норфолку, что обижена. Когда я наклоняюсь, чтобы поцеловать его влажную щеку, поднимаюсь на ноги и кланяюсь королю, он не щипает меня за зад, и я чувствую облегчение от того, что двор не видит, что он похлопывает меня, как свою собаку. Я холодно киваю епископу и герцогу, которые, похоже, боятся оставить свои места.
– Доброй ночи, дорогой муж, и благослови вас Господь, – нежно говорю я. – Я буду молиться о том, чтобы ваша боль к утру отступила.
Генрих бурчит что-то на прощание, и я вывожу фрейлин из его покоев. Нэн оглядывается и видит, что Гардинеру предложили стул и он сидит голова к голове с королем.
– Хотела бы я знать, что говорит этот псевдосвященник, – бурчит она.
Я встаю на колени возле своей великолепной резной кровати и молюсь за Анну Эскью, которая сегодняшнюю ночь проведет на вонючем соломенном матрасе в тюрьме Ньюгейт. Я молюсь за всех узников веры, которых знаю, потому что они были у меня, говорили со мною. Я молюсь за тех, кто состоял у меня на службе и кого сейчас принуждали к тому, чтобы они предали меня; за тех, о ком я так и не узнаю в Англии, Германии и других далеких странах.
Я знаю, что Анна терпит это за свою веру, но мне невыносима мысль о том, как она лежит в темноте, прислушиваясь к шороху крыс в углах камеры и стонам заключенных. За ересь наказывают, сжигая на костре. Хоть я и уверена, что ни Гардинер, ни король не обрекут девушку из хорошей семьи на такой страшный конец, сама мысль о том, что ей придется предстать перед судом, заставляет меня вздрогнуть и спрятать лицо в руках. Она виновна лишь в том, что говорит, что просвира на хлебопреломлении – это хлеб, а вино – это вино. Не может быть, чтобы ее держали в тюрьме за то, что она говорит о том, о чем все и так знают.
Господь наш сказал: «Вот мое тело, вот моя кровь», но он не стремился обмануть верующих, как лжесвященники, которые окропляли красной краской раны на статуях. Он имел в виду: «Думайте обо мне, когда вы едите свой хлеб, думайте обо мне, когда пьете вино. Принимайте меня в сердце своем».
В «Литургии» Томаса Кранмера об этом сказано ясно, и сам король одобряет его книги. Мы напечатали их, и их можно прочитать на английском языке. Почему тогда Анна сегодня проводит ночь в тюрьме, ожидая суда, где епископ Лондонский будут требовать от нее отречения от ее веры, когда она всего лишь говорила о том, что одобрил король Англии?
Когда я наконец ложусь в кровать, Нэн уже спит на своей стороне. Простыни остыли, но я не посылаю за горничной, чтобы она их нагрела. Я начинаю стыдиться роскоши гладких белых простыней и белой вышивки на них, которую чувствую кончиками своих пальцев. Я думаю об Анне на соломенном матрасе и о Томасе на покачивающейся жесткой корабельной койке в море. Я думаю, что не страдаю, но тем не менее я несчастна, как избалованный ребенок.
Я быстро засыпаю – и почти сразу оказываюсь на ступенях винтовой лестницы старого замка. Я точно знаю, что это место не находится ни в одном из наших дворцов, потому что здесь слишком холодно и сыро для места, в котором будет жить король. Моя рука лежит на наружной стене, а под бойницами я вижу подернутые ледовой коркой лужи. На лестнице темно, она едва освещена лунным светом, ее ступени вытерты и неровны. Я почти не вижу пути от одного окна до другого. Я слышу шепот, доносящийся снизу лестницы и эхом отражающийся от стен: «Трифина! Трифина!» Я вздрагиваю, потому что наконец понимаю, кто я такая и что сейчас найду.
На верхней площадке лестницы я нахожу три маленькие деревянные двери. Я не хочу открывать эти двери и входить в комнаты, находящиеся за ними, но меня гонит вперед этот шепот. Первая дверь открывается со звоном: ручка, провернувшаяся в моих руках, открывает щеколду внутри. Мне не хочется думать о том, кто мог услышать этот звук, кто мог оказаться в этой комнате, повернуть голову на звон, и, как только я понимаю, что замок поддался, я толкаю дверь. Я вижу маленькую комнату, освещенную лунным светом, льющимся из узкого окна. Из-за плохого освещения я вижу только, что всю комнату занимает какой-то механизм. Сначала мне кажется, что это ткацкий станок: длинная приподнятая скамья и два больших вала с обоих ее концов и рычагом посередине. Подойдя поближе, я замечаю, что к скамье привязана женщина с руками над головой, страшно свернутой набок. Ее ноги, привязанные к нижнему концу скамьи, вывернуты так, что кажутся сломанными. Кто-то давил на рычаг снова и снова, чтобы вращались страшные валы, растягивая ее тело в разные стороны все больше. Ее плечи и локти вышли из суставов; бедра, колени и даже голени растерзаны на части. Ужас мучения исказил бледное лицо, но я все равно узнаю Анну Эскью. Я пячусь и вываливаюсь из этой пыточной и упираюсь спиной в другую дверь. Вторая комната оказывается пустой и тихой, и я сначала облегченно вздыхаю, но потом ощущаю отчетливый запах дыма. Дым сочится сквозь доски пола, и я чувствую, что они становятся все горячее. И вот, в соответствии со странными законами сна, я оказываюсь привязанной к столбу, стянутой по рукам и ногам так, что не могу двинуться. Становится все жарче, дым щиплет глаза и нос, и я начинаю кашлять. Дым попадает все глубже в горло. Потом я замечаю первые языки пламени меж досок, пытаюсь увернуться от них и закричать «нет!», но дым душит меня, я кашляю все сильнее и сильнее…
– Проснись! – говорит Нэн. – Просыпайся! Вот, попей, – и она вкладывает мне в руку бокал с элем.
Я цепляюсь за бокал дрожащими руками.

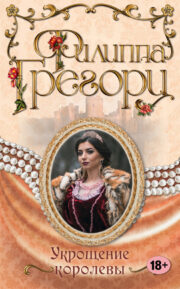
"Укрощение королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Укрощение королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Укрощение королевы" друзьям в соцсетях.