– Разумеется, – быстро произносит Эдвард Сеймур, потом смотрит на меня. – Я рад, что Ее Величество здесь, она всегда приносит покой и умиротворение. Его Величество не стоит беспокоить, особенно в такое время. И особенно когда дела обстоят так хорошо.
– Короля ничто не сможет успокоить до тех пор, пока все не пойдет в должном порядке, – не сдерживается епископ. – Как он может быть спокоен, когда работа его Тайного совета постоянно прерывается с появлением новых людей, которые приводят с собой других новых людей? Когда там постоянно ведутся расследования по обвинению в ереси, потому что каждый раз под ересью понимается что-то новое? Когда им позволено рассуждать и спорить без всякого надсмотра?
– Я их выведу, – говорит Томас Говард, перекрывая голоса других советников и обращаясь к королю так, словно был его единственным другом. – Господь свидетель, они никогда не заткнутся, даже когда король велит им помолчать. Так они и до смерти заболтать могут, – и Томас плотоядно усмехается. – Да рубить им головы, и вся недолга.
Король смеется и кивает в одобрение, и Томас Говард получает право действовать, чем немедленно пользуется, выводя всех из комнаты. В дверях он даже оборачивается и позволяет себе подмигнуть королю, словно говоря, что с подобными непростыми задачами может справиться только он. Когда за ними закрывается дверь, в комнате повисает неожиданное молчание. Екатерина Брэндон делает реверанс королю и отходит к окну, чтобы сесть там и смотреть на сады. Энтони Денни подходит к ней. В комнате еще около полудюжины человек, но они все ведут себя очень тихо, переговариваясь между собой или играя в карты. По меркам перенаселенного двора, мы находимся в уединении.
– Дорогой муж, вам очень больно? – спрашиваю я.
Генрих кивает.
– Они ничего не могут сделать, – шипит он яростно. – Они ничего не знают.
Доктор Баттс как раз поднимает голову посреди напряженной беседы с фармацевтом, словно чувствуя, что отвечать за неудачу придется именно ему.
– Это все старая рана? – осторожно спрашиваю я.
Король снова кивает.
– Они говорят, что ее, возможно, придется прижечь. – Он смотрит на меня так, словно я могу его спасти. – Я молю Бога о том, чтобы избежать этой процедуры.
Прижигание раны осуществляется с помощью прикладывания к ней раскаленного докрасна металла, чтобы убить заразу. Это мучительная процедура, а для раненого она тяжелее, чем клеймение вора буквой «В». Подвергать невинных людей подобному испытанию исключительно жестоко.
– Не может быть, чтобы процедура прижигания была так необходима! – требовательно допытываюсь я у доктора Баттса, но тот в ответ лишь качает головой. Он не знает.
– Если мы сможем вычистить рану и не дать ей закрыться, то король снова будет здоров, – уверяет он. – И раньше нам всегда это удавалось без прижигания. И решение все-таки прибегнуть к этой процедуре будет весьма непростым. Его сердце… – Голос лекаря дрожит и обрывается. Я догадываюсь, что он в ужасе от одной только мысли заставить огромное, пропитавшееся ядом из раны тело короля пережить такую встряску.
Я беру Генриха за руку и чувствую, как он сжимает мою.
– Я ничего не боюсь, – заявляет он.
– Знаю, – воркую я. – Вы – прирожденный храбрец.
– И это не старость, дряхлость или болезнь.
– Это же рана, полученная на турнире, правда? Много лет назад.
– Да, да, именно так. Это рана от поединка. Рана молодого человека. Я был беспечен. Бесстрашен и беспечен.
– Не сомневаюсь, что уже через месяц вы снова будете везде разъезжать, все так же бесстрашно и беспечно, – говорю я с улыбкой.
Он притягивает меня ближе к себе.
– Знаешь, я обязательно должен снова сесть на коня. Я должен вести свою армию на Францию. Я должен поправиться. Я должен встать.
– Уверена, что так и будет.
Ложь легко срывается с моего языка. На самом деле я совсем в этом не уверена. Я вижу, как сочится рана, и смрад от нее исходит хуже, чем от мертвечины. Я вижу прозрачный кувшин, в котором плавают толстые черные пиявки, стол, на котором в изобилии стоят склянки, сосуды, лежат саше с травами, а фармацевты отчаянно торопятся, смешивая лекарства. А главное – я вижу озабоченные лица двух лучших докторов королевства. Я уже ухаживала за умирающим мужем и хорошо помню, что его спальня в то время выглядела именно таким образом. Но с чем мне не доводилось сталкиваться до этого, так это с таким удушающим смрадом. Он плотен и неистощим, спутник разлагающейся плоти и смерти.
– Сядь, – велит мне король. – Сядь рядом со мною.
Я пытаюсь проглотить свое отвращение, пока паж несет мне стул. Король сидит на своем огромном кресле, больная нога лежит на приставленном стуле. На нее стыдливо наброшено покрывало, чтобы немного заглушить запах и не показывать двору, что король Англии медленно гниет заживо.
– Перед тем как отправиться во Францию, я назову наследников, – тихо говорит он.
И я понимаю, о чем спорили его советники. Сейчас я ни в коем случае не должна подвести ни леди Марию, ни маленькую Елизавету. И я не должна показывать свою заинтересованность в каком-то отдельном наследнике. Ни минуты не сомневаюсь в том, что только что ушедшие придворные ратовали за своих кандидатов. Эдвард Сеймур, должно быть, напоминал о первенстве своего племянника, принца, Томас Говард защищал права леди Елизаветы, епископ Гардинер и Томас Ризли настаивали на выдвижение леди Марии в наследницы после принца Эдварда.
Они не знают, каких умеренных взглядов она стала придерживаться в вопросах религии, как полюбила открытые и интересные дискуссии. Они не знают о том, что она полюбила процесс познания, и сейчас мы даже говорим о переводе Евангелий. Они не знают, что леди Мария прочитала всю Псалтирь епископа Фишера и даже перевела некоторую ее часть под моим руководством. Они видят в этой молодой женщине лишь безмозглую пешку, полезную для их подковерных игрищ. Они не догадываются, что мы, женщины, научились думать самостоятельно. Епископ Гардинер думает, что если леди Мария займет трон, то по его указанию она обязательно вернет Церковь под крыло Рима. Томас Говард считает, что маленькая Говард передаст бразды правления королевством в руки его и его семьи. И ни один из них не считает меня серьезной и влиятельной фигурой при дворе. Они даже отказывают мне в способности думать. Но тем не менее я могу стать королевой-регентом, и тогда именно я буду решать, на каком языке королевство будет слушать мессу, и я определю, что именно будет говорить проповедник на богослужениях.
– Милорд, чего именно вы желаете?
– А что, по-твоему, будет правильно? – спрашивает он.
– Я считаю, что такому молодому и сильному королю, как вы, нет необходимости задумываться об этом.
– Я всего лишь половина мужчины сейчас, – горько произносит он, кивая на больную ногу.
– Вы поправитесь и снова сядете на коня. Вы сильны и здоровы для мужчины вашего возраста. Вы всегда встаете на ноги после болезни. У вас ужасная рана, но вы живете с ней и побеждаете ее каждый день, как врага. Я вижу это ежедневно.
Ему приятны мои слова.
– Но они-то этого не видят, – король раздраженно кивает на дверь. – Они только и ждут моей смерти.
– Они думают только о себе, – говорю я, осуждая сразу всех, чтобы удержать свое положение. – Чего они хотят?
– О, они хотят, чтобы их семьи получили все преференции, – коротко отвечает он. – Хотят продвинуть своих кандидатов. И все они надеются править королевством, управляя Эдвардом.
Я медленно киваю, словно неприкрытые амбиции придворных стали для меня неприятным сюрпризом.
– А что думаете вы сами, милорд? Сейчас нет ничего важнее, чем то, чего хотите вы.
Он пытается сменить положение в кресле и морщится от боли. Затем наклоняется ближе ко мне.
– Я наблюдал за тобой.
Его слова гудят в моей голове как набат. Он наблюдал за мной. Что же он видел? Свернутую копию рукописного перевода Псалтири, отправляющуюся на печать? Ежеутренние занятия с принцессами? Мой повторяющийся кошмар с запертой дверью наверху влажной лестницы? Мои эротические сны о Томасе? Может, я проговорилась во сне? Неужели я была настолько глупа, что, лежа рядом с королем, произнесла имя другого мужчины?
Я глотаю сухой комок в горле.
– Да, милорд?
Он кивает.
– Я наблюдал за тем, как ты проводишь время с леди Елизаветой и как стала хорошей подругой для леди Марии. Я вижу, как радуются они обществу друг друга, как ты привела их обеих в свои комнаты и как они расцветают от твоей заботы.
Я киваю, но не смею произнести ни слова. Я пока не понимаю, куда он клонит.
– Я видел, как ты обращаешься с моим сыном Эдвардом. Мне рассказывают, что вы обмениваетесь письмами на латыни, причем он утверждает, что в них учит вас языку.
– Это просто игра, – улыбаюсь я. – Ничего больше. – Я не могу понять по его мрачному лицу, доволен ли он, что мы так сблизились с его детьми, или Генрих подозревает меня в том, что я делаю их заложниками своего влияния и амбиций, как остальные придворные. Я не знаю, что ему ответить.
– Ты взяла троих детей от совершенно разных матерей и объединила их в настоящую семью, – говорит король. Я все еще не могу понять, как он к этому относится. – Ты взяла сына ангела, дочь шлюхи и дочь испанской королевы и сделала их братом и сестрами.
– Но все они – дети великого отца, – робко напоминаю я.
Его рука взлетает вперед, словно он ловит муху. Генрих хватает меня за запястье так быстро, что я не успеваю вздрогнуть.
– Ты уверена? – спрашивает он. – В том, что это относится и к Елизавете?
Я почти чувствую густой запах собственного страха, который, как мне кажется, даже заглушает смрад, исходящий от раны. Я думаю о матери девочки, об Анне Болейн, о ее страхах и рисках и о неведении в том, что будет с нею дальше.
– Уверена?
– Тебе не кажется, что мне подбросили чужого ребенка? – настойчиво спрашивает он. – Тебе не кажется, что ее отцом был другой мужчина? Ты отрицаешь вину ее матери? Ту вину, за которую я отрубил ей голову?

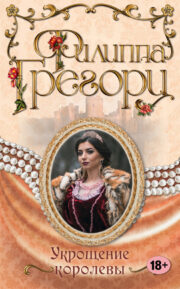
"Укрощение королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Укрощение королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Укрощение королевы" друзьям в соцсетях.