Гедеонов ответил почтительным поклоном. В душе он сознавал, что профессор тут был ни при чем и что от его профессуры еще никогда дирекции не было ни тепло ни холодно. Но чем щедрее сыпались награды, тем, стало быть, довольнее был государь, а его благоволение ценилось превыше всяких сокровищ.
— Ты эту роль еще в училище готовила? — спросил император, вновь обращаясь к молодой девушке.
— Никак нет, ваше величество! Мне ее дали из-за болезни другой артистки! — И она назвала фамилию внезапно заболевшей артистки на роли травести.
— Ну и спасибо ей, что она заболела! — улыбнулся государь. — Кто же тебе помогал при изучении роли? — продолжал расспрашивать он.
— Директор и инспектор репертуара! — бойко ответила Асенкова.
Но она заведомо лгала: ни Гедеонов, ни знаменитый Павел Степанович Федоров, бывший в то время инспектором репертуара, и в глаза ее не видали после передачи ей ответственной роли.
Но государь поверил льстивой неправде находчивой маленькой артистки.
— Спасибо тебе, — сказал он, обращаясь к Гедеонову. — И Федорову мое спасибо передай за то, что вы при всем своем недосуге и на это время находите.
Гедеонов почтительно поклонился и бросил благодарный взгляд на молоденькую артистку, внесшую такую светлую страничку в его послужной список. Получив в один вечер несколько последовательных царских «спасибо», он был на верху благополучия.
— Когда ты опять выходишь? — спросил государь, обращаясь к Асенковой.
Она вопросительно взглянула на директора, так как не знала распределения репертуара и ей никто не указал на ближайший ее выход.
— Когда она опять выйдет? — обратился государь с вопросом к Гедеонову.
— Я думал послезавтра повторить тот же водевиль, ваше величество, — ответил директор.
— И прекрасно! Я с тобою совершенно согласен. Кстати, у нас гостит германский принц, и мой шурин завтра приезжает из Пруссии. Я их обоих привезу посмотреть, какие у меня лихие гусары водятся за кулисами моей армии! — И, еще раз протянув руку Асенковой, государь вышел из-за кулис.
Как только император ушел, Асенкову со всех сторон окружили и товарищи, и начальство. Все поздравляли ее, предрекали ей блестящую будущность.
Один только молоденький актерик, выпущенный из мужских классов училища одновременно с выпуском того женского класса, к которому принадлежала Асенкова, стоял в стороне грустный и понурый. Он один только не радовался успеху молоденькой актрисы, не поздравлял ее и ничего ей не предрекал.
Асенкова тотчас же заметила это, сама направилась к нему и тоном нескрываемого удивления сказала:
— Гриша! Ты как будто недоволен моим успехом?
Он молчал; его лицо было пасмурно и грустно.
— Да что с тобой, Гриша? С ума ты, что ли, сошел в самом деле? — принялась теребить его Асенкова, дергая его за руки.
— Госпожа Асенкова, раздеваться пожалуйте! — послышался голос портнихи.
— Подожди меня здесь, Гриша! Мы с тобой вместе до моей квартиры дойдем! — крикнула она актерику.
Он ответил молчаливым наклоном головы. Его дурное расположение духа явно не проходило от ее ласкового и заискивающего тона. Однако он, успев уже переодеться, остался дожидаться подругу в кулисах, чтобы проводить ее до дома.
Идти было недалеко. Асенкова, не имевшая никого из близких родных, за исключением матери, которая сама жила в богадельне, получила разрешение временно поселиться в одной из свободных комнат при театральном училище. Такой пансионат существовал для молодых артистов и артисток, не имевших, как говорится, куда голову приклонить в первую минуту самостоятельной жизни.
Асенкова живо переоделась и почти бегом прибежала к ожидавшему ее товарищу. Она еще вся полна была впечатлением пережитого счастья и едва могла поверить известию о положенной ей необыкновенной прибавке, о которой пришел ей сообщить «сам» Федоров, оповещенный Гедеоновым о той службе, какую молоденькая артистка сослужила им обоим. Она прерывающимся от волнения голосом передала своему спутнику, Грише Нечаеву, о всех случившихся с нею переменах, а затем добавила:
— Ты меня прямо до комнаты проводи, Гриша, и в комнату ко мне войди! Ничего, я попрошу позволения у дежурной классной дамы. Я прозябла что-то. Чаю вместе напьемся. Мне и это позволят!
— Тебе сегодня и не то позволят! Они ведь подлецы! — неожиданно выпалил Нечаев, но тотчас же, сам почти испугавшись резкости выраженного им суждения, боязливо оглянулся по сторонам и осторожно последовал за Асенковой в ее комнатку.
В школе, очевидно, уже были известны и необычайная царская милость, и крупный успех роли, исполненной молоденькой артисткой. Это было ясно видно из той встречи, какой она удостоилась при первом своем появлении в коридоре училища. Даже дежурная классная дама в сущности уже не имевшая для нее никакого значения как начальство, но имевшая право воспротивиться такому позднему чаепитию, да еще в обществе приведенного с собою гостя, заискивающим тоном ответила на робкий вопрос Асенковой о чаепитии:
— Ах, ma chere, конечно можно! О чем тут разговаривать? Если вы хотите, то я и самовар велю к вам в комнату подать. Няньки еще не спят. Еще наши девочки со спектакля не вернулись.
Тронутая таким вниманием, Асенкова с восторгом согласилась на это предложение и, сбросив свой большой платок и с ногами усаживаясь в глубокое кресло неизвестно откуда очутившееся у нее в комнате, проговорила:
— Вот видишь, Гриша? Я тебе говорила, что все устроится. Да не хмурься же так! Что с тобой? Я тебя вовсе не узнаю. Все так хорошо, так счастливо идет: и роль мне удалась как нельзя лучше, и жалованье я получила такое, о каком и во сне мне сниться не могло, и разовые мне дали совсем небывалые! Прямо такое счастье, такое счастье! Я проснуться боюсь. Ну как все это только сном окажется? Ну как всего этого на самом деле нет?
Вместе с чаем неизвестно по чьему распоряжению появились и сдобные булочки, и сухари, и даже бутерброды с маслом и сыром, словом, целая серия такого благополучия, о каком молоденькая дебютантка действительно и мечтать не могла.
— Гришка, противный! Да смотри же, что мне прислали! Смотри, какой у нас с тобой ужин готов! — вскакивая с места и теребя товарища, кричала Асенкова, сама вертясь как сумасшедшая и его заставляя волчком вертеться вместе с собой.
— Оставь, пусти, Варя! — недовольным голосом произнес Нечаев, освобождаясь от объятий своей неугомонной подруги. — Тебе весело? Ну и веселись себе с Богом, а меня оставь в покое! И домой меня отпусти, пожалуйста, мне еще далеко идти к товарищу, у которого я приютился. А завтра на репетицию рано приходить велено. Мы ведь — не первые сюжеты, нам сразу премьерских окладов не дадут!
В тоне этих слов звучала непривычная едкая горечь.
— Нет, ты мне скажи, Гришка противный, что с тобой? — настойчиво спросила молоденькая артистка, когда разлит был по чашкам чай. — Какая тебя муха укусила? Чего ты дуешься, как мышь на крупу, вместо того чтобы радоваться?
— И не дуюсь я вовсе, и радоваться мне нечему, — ответил Нечаев. — С чего ты выдумала?
— Как радоваться нечему? Разве ты раздумал жениться на мне? А? Да отвечай же: раздумал, что ли? — И в голосе молодой девушки послышались слезы. — Ведь мы с тобой это еще в последнем классе решили… так порешили: на какое бы жалованье нас ни выпустили, а мы все-таки женимся. А теперь? Я вон сколько получать буду, страсть! Подумать, так одурь берет. А ты надулся, как сыч.
— Нет… за тебя я очень рад, — грустно проговорил молодой человек.
— За меня! За меня! А за себя-то что же? Нет, ты положительно глуп! Ведь если я обеспечена, так, стало быть, и ты со мной вместе тоже обеспечен. А мама… бедная мама, как счастлива будет! Господи, поскорей бы утро! Побегу, расскажу ей все! До репетиции отпрошусь… Да чего мне бежать? Я и «гитару»[1] нанять могу! Вот только не знаю, есть ли у меня деньги. Я давеча прачке отдала да кофе маме купила. У тебя нет денег, Гриша?
Нечаев молча вынул из кармана портмоне и подал ей монету.
— У, какой ты богатый! Целых четыре рубля у тебя! И откуда ты столько денег достал?
— Я за урок получил. Купца одного польку «трамблан» танцевать учу, так он заплатил!
— Ты танцевать учишь? — расхохоталась Асенкова. — Ну и дурак же твой купец, если он танцам у тебя обучается. Ты сам-то ничего не умеешь и не понимаешь! Ну, да это все равно, давай деньги! Я тебе скорехонько отдам. А завтра утром я к маме съезжу и свезу ей два апельсина к чаю. Она страсть как их любит! Ну, да это все к стороне. А ты скажи мне, за что ты дуешься?
— Я вовсе не дуюсь, а грустно мне, на сердце у меня тяжело.
— Ну не дурак ли ты? Скажите на милость! У нас столько радости, а у него на сердце тяжело.
— Да не моя это радость, а твоя!
— И опять дурак! С каких это пор мы с тобой свои радости и горести делить перестали? Прежде все пополам было, а теперь и подавно!
— Нет, Варя, теперь пойдет иначе. Теперь ты мне не пара!
Асенкова подбежала к молодому товарищу и обняла обеими руками его голову.
— Вот видишь, какой ты скверный! Целоваться меня заставляешь! А помнишь, что Мефистофель поет: «Мой совет, до обручения не целуй его!»?
— Что же, совет хороший, и ты ему следуй. Только уж ежели можно, то и относительно других его соблюдай и тоже до обручения никого не целуй!
— Да ты что это, в самом деле что ли спятил? — бесцеремонно осведомилась Асенкова. — Про что ты это толкуешь? На что намекаешь?
Нечаев порывисто встал и, близко подойдя к ней, произнес решительным тоном:
— Теперь я тебя спрошу. Что ли ты поглупела от радости или хочешь только притвориться глупенькой?
— И не думаю притворяться, а просто не понимаю, что за вздор ты мелешь! — ответила она недовольным тоном. Она не привыкла, чтобы ее смирный и всегда покорный Гриша так разговаривал с нею; она такого разговора с собой не признавала, будучи самолюбивой и гордой. — Говори дальше! Говори, если начал!

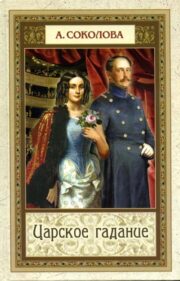
"Царское гадание" отзывы
Отзывы читателей о книге "Царское гадание". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Царское гадание" друзьям в соцсетях.