Поверх ширмы она могла видеть спину вольноотпущенника. Казалось, даже спина его пылала смущением. В Греции и Риме обнаженные мужчины были делом привычным, но женщины… это шокировало.
Клеопатра прошептала слово. В его осанке ничего не изменилось — разве что теперь он стоял, словно застывший в камне. Застывший в камне и безучастный, словно вынутый из вечно бегущего времени — до того мгновения, пока бренный голос не позовет назад. Клеопатра горько усмехнулась. Что теперь для нее значило время?
Медленно, спокойно, величаво, как выполняют ритуал, служанки Клеопатры наряжали ее словно для грандиозного праздника. Они освежили ее в чистой, прохладной воде из огромной бочки, припасенной надолго впрок для живых в обиталище смерти, умастили тело тонко благоухавшими маслами. Гермиона дрожащими пальцами надевала на царицу одежды и золотые украшения, одно за другим, но лицо ее было спокойным, бесстрастным. Рис расчесывала и заплетала волосы Клеопатры, унизывая их жемчугами и золотом, и ни единого признака страха и горя не было в ее движениях.
Боги находились рядом. Клеопатра слышала их перешептывание. Она приветствовала их, опустив веки и едва заметно наклонив голову — не следовало мешать меткой руке Ирис, державшей кисточку и раскрашивавшей ее губы, щеки, глаза. Царица казалась великим произведением искусства, и требовалась предельная осторожность и тщательность, чтобы довести его до совершенства. «Да, все правильно», — подумала Клеопатра. Царица, дочь великих царей, сейчас отринет все земное, человеческое, что еще в ней оставалось, и всецело станет царицей и богиней.
Разве не для этого она была рождена? Разве не к этому текли все дни ее жизни? Неизбежность происходящего, безжалостная ясность знания наполняли ее почти весельем. Трагедия? Пустые слова… Да, ее повелитель мертв, царство потеряно. Но в душе ее не было скорби. Сейчас она была жрицей, исполнявшей свой долг, ритуал, который не поможет уже ничему, но она совершала его — таковы были священные узы.
Совсем не этого ждал от нее Октавиан, но что такое Октавиан перед волей и даром богини? Он устроит в Риме триумф в свою честь. Он будет не римлянином, если лишится шанса пустить пыль в глаза — золоченую пыль. Он устроит на форуме парад своей армии, протащит перед всеми свою добычу — награбленное золото, пленников. И впереди, золотыми цепями прикованную к его колеснице, поведут Клеопатру, злейшего врага Рима, павшую до дешевой подневольной актерки в дрянном спектакле на потеху римских зевак.
— Нет, — сказала она вслух. Служанки пристально взглянули на нее. Евнух казался самой скорбью. Царица улыбнулась, чтобы их успокоить. — Нет, меня не поведут на триумф Октавиана.
Они поклонились ей.
— Нет, госпожа, — вымолвила Ирис. — Тебя никогда не постигнет такое несчастье.
Какое верное эхо; преданное, совершенное — и законченное в своем эгоизме. Женщина, которую теперь отыскать в ней едва ли возможно, наверное, сочла бы это слегка отвратительным. Царица нашла это правильным. Сейчас совершался великий акт царской воли, который, как всякий такой акт, нуждался в присутствии подданных. И более достойных и верных ей не найти.
Наконец одевание было окончено, волосы убраны в прихотливые косы и локоны, драгоценности мерцали в ушах и на шее, на руках и запястьях. Лицо было раскрашено искуснейшим образом: маска царицы — красивая, холодная, высоко парящая над миром людей в своей отстраненности. Но в зеркале, принесенном Гермионой, Клеопатра отыскала кое-что от земной Клеопатры, однако отвращения к большому, слегка крючковатому носу Птолемеев не испытала. Ну что ж, она ведь из Птолемеев, тут нет сомнений; она происходила от великих царей по прямой, как чистопородный конь.
Гермиона унесла зеркало. Клеопатра присела на золоченом ложе, утопая в драгоценных шелках мягких подушек. Наверху, в галерее, Элафродит стоял, словно изваяние из камня.
Ирис принесла кувшин, который так старательно прятался среди кувшинов с вином и маслами, духами, красками, даже с хлебом, оливками и фруктами. На нем не было никаких знаков, кроме печати Египта: кобра с поднятой головой. Ирис несла кувшин осторожно, опасаясь его, не моргая — ее отвага всегда была поразительной.
Она поставила кувшин Клеопатре на колени. Царица обвила его бока руками. Кувшин был прохладным и гладким. Простой до скупости узор из крон папируса покрывал его стенки: черное на красном; Красная Земля и Черная Земля; пустыня и изобильные долины Нила — спасение и богатство Египта.
Она теряет время попусту. Элафродит будет стоять неподвижно, пока не зажгутся звезды, но Октавиан — нет. Он достаточно умен, умом хитрости, и, догадавшись, что задумала Клеопатра, сделает все возможное, чтобы помешать ей.
Царица приподняла крышку. Внутри кувшин казался пустым — только тьма и память о вине. На какое-то мгновение она испугалась, что ее предали, — пусть даже из доброты.
Но потом в сосуде что-то зашевелилось, зашипело, заскользило. Узкая головка появилась над краем горлышка, слегка покачиваясь; тонкий язычок, похожий на вилку, чуть извивался и вздрагивал.
— Ах, — вздохнула Клеопатра. — Какая же ты красавица. Иди, радость моя. Иди и поцелуй меня.
У змеи не было ушей, чтобы слышать, но она видела движение ее руки. Бросок кобры был стремительным. Инстинкт приказывал Клеопатре отдернуть руку, но она осталась недвижимой. Боль была слабой — по сравнению с болью поражения и страха, что ее поведут, живую, во время триумфа Октавиана. Боги были милосердными — змея укусила ее в вену на запястье, глубоко вонзив свои зубы; сейчас убийственный яд потечет по жилам этой глупой скучной жертвы.
Наконец, опустошенная, змея подняла голову, скользнула по рукам царицы, сползла на пол и скрылась в тени гробницы. Клеопатра легла на спину. Она не чувствовала ничего, кроме горячих уколов боли — словно много-много тонких иголок кололи ее плоть.
Ирис взяла кувшин с коленей Клеопатры, сунула туда руку, словно он был полон маслин, а вовсе не змей, охнула и чуть не уронила сосуд. Гермиона поймала его на лету. Ирис упала на пол, лицо ее исказилось от боли. Рука была сплошь покрыта маленькими двойными точками капелек крови.
— Эгоистка, — сказала Гермиона. — Ты ничего нам не оставила.
Она резко перевернула кувшин. Клубок змей шлепнулся на пол, расплетаясь и скользя прочь, почуяв свободу. Но одна замешкалась, остановленная меткой ногой Гермионы. В припадке ярости змея укусила ее — и укусила очень глубоко.
Гермиона улыбнулась.
— Вот и все. Теперь я тоже с вами.
— А я… мне ничего не осталось, — растерянно проговорил Мардиан.
Осталось, — успокоила его Клеопатра. — Окно. Беги, пока не поздно. Скоро придет Октавиан.
Мардиан не стал спорить. Змеи расползлись, яда больше не было, а открытое окно предлагало жизнь — пусть даже жизнь, полную горя. Да. Она не сказала ему, куда идти… Возможно, он вернется во дворец или поищет в округе Диону. Диона его приютит.
Что ж, пусть выбирает сам. Медленно, медленно холод крался сквозь все тело. Ее предупреждали, что боль может быть невыносимой, но эта казалась почти приятной. Было похоже, будто она засыпала в прохладной воде — если бы только не помнить о пылающем холоде в месте укуса.
Клеопатра еще видела Ирис, лежащую у ее ног: голова на руке, сонная улыбка… Боль никогда не заботила эту женщину.
Гермиона, последняя жертва, сейчас была самой сильной. Она опустилась на колени возле ложа царицы. Лицо ее, всегда такое красивое, сейчас сияло, как лик богини. Клеопатра потянулась к нему, но пальцы не слушались. Прекрасное, какое прекрасное лицо; но, ох, как холодно, холодно…
— Богиня, — прошептала она. — Мать Исида… защити…
…Голоса. Удары, словно бьет чудовищный барабан. Крики, топот ног — молниеносность отчаявшихся…
Слишком поздно. Клеопатра смеялась, когда души ее расставались с нею и друг с другом, расправляя крылья и взмывая вверх, к сиянию вечности. Слишком поздно! Бедный Октавиан — он так хотел захватить для своего триумфа царицу. Ему придется поискать себе другую. Клеопатра победила! Она была и осталась царицей — навсегда, даже в смерти.
…Голоса римлян, рев ярости:
— Гермиона! Чтоб тебе провалиться! Проклятие! Разве правильно было так поступать?
— Очень правильно, — ответила Гермиона, словно с самых пределов этого мира, — и достойно царицы, преемницы стольких благородных царей.
48
Диона поняла, что царицы больше нет. Это знание пришло не сразу; она прошла уже весь путь к храму и даже вошла на его территорию, но вдруг колени у нее подкосились, и она упала.
Горе, поразившее ее, сбившее с ног, сменилось безумной радостью: Клеопатра победила! Царица оставила Октавиана с носом, украла у него удовольствие. Он получил Египет, захватил все его богатства, власть, поля, которые могли накормить весь мир. Но он никогда не получит ее саму.
Мир без нее стал крошечным и холодным. Даже храм богини был полон римлян. Они разворовывали его богатства, хотя, похоже, сочли опрометчивым пытаться насиловать жриц.
Диона хотела бы уединиться в просторной комнате без окон и отдаться скорби. Но скорбеть было не время; Октавиан, обозленный, одураченный, мог распалиться жаждой мести; обратить ее на Мать Исиду, раз Клеопатра стала недосягаемой для него — ведь царица была Исидою на земле.
Она с трудом встала. Исида не должна быть поругана. Даже римляне Октавиана обязаны это понять.
Цель и Долг — вот что заставило ее подняться и действовать, хотя разумнее было искать средство, как побыстрей умереть. Египет погиб. Roma Dea пожрала его.
Что-то темное пыталось внушить ей эти мысли, сломить ее дух, но Диона стряхнула с себя силы мрака. Они хотят, чтобы Египет был повержен в прах, но так ли в действительности обстоит дело? Диона остановилась и встретилась взглядом с глазами богини в святилище. Мать Исида улыбалась вечной, бессмертной улыбкой. Диона не чувствовала ни пустоты за спиной, ни единого признака поражения. Живой образ ушел в мир теней. Но ее дух, ее сущность были сильны, как всегда.

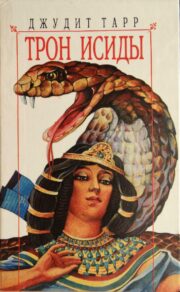
"Трон Исиды" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.