— Вот он, явился, Пожиратель Душ.
Это был голос Александра Гелиоса. Луцию казалось, что мальчик сидел совсем радом, хотя находился он гораздо дальше — на другом ложе — и выглядел совершенно спокойным.
— Ждет своей трапезы… Но мы не собираемся кормить его, и госпожа Диона, по-моему, тоже — что бы она ни думала. Однако она уже почти готова сдаться, чувствуешь? Госпожа Диона считает, что может выйти из своего тела и предоставить Гебе принять ребенка, пока сама она будет бродить по цветущему лугу. Но она забыла о Пожирателе Душ. И о суде богов. Она потерпит поражение, потому что слишком скоро отказывается от жизни.
Но Луций уже пересилил ужас и страх, он возвысился над ними. Хватит с него! Парализованные страхом — плохие помощники.
Однако он испытывал странную ревность: это дитя знает о Дионе так много, а сам он — ничтожно мало. Но здесь был виноват только он сам. Ему осталось лишь заглянуть внутрь себя, в глубины своего сердца. Ее присутствие там — когда-то такое неизменное и почти зримое, теперь едва ощущалось; силы Дионы сходили на нет. О некоторых вещах Гелиос ничего не сказал — он еще слишком молод, чтобы знать о женских делах. Борьба за ребенка разорвала Диону. Она истекала кровью там, где этого быть не должно.
Тварь в воротах зевнула, обнажив огромные зубы. Луций подавил мгновенное, сильное желание продемонстрировать ему свое оружие. Зубы — не лучшая защита для человека. Ею был разум.
Если бы он мог войти в душу и ум Дионы или просто встряхнуть ее, заставить вспомнить о своей силе!..
Но Луций понимал: она уже прошла через это. Он очень надеялся на ее служанку. Геба была странным созданием, во многом непредсказуемым, но в одном он был твердо уверен: нубийка обожала свою госпожу. И уж пустила в ход все умение и средства, которые только у нее были, и исчерпала их. Но этого было недостаточно.
Они ничем не могли помочь ей.
Луций отогнал эту мысль, продиктованную отчаянием. У него есть оружие — и он должен суметь воспользоваться им. Эти дети… Да, пока только дети — но какие! Некоторые из них были богами, по крайней мере, думали так. И здесь Антоний, хотя и благоразумно и трезво держащийся в стороне; и Клеопатра во дворце, со своими молитвами и заклинаниями — всем арсеналом богини, заключенной в земную оболочку.
У него есть все это — неужели они не смогут уговорить одного-единственного крохотного ребенка прийти в мир?
Он засмеялся неожиданно резко, и дети удивленно уставились на него.
— Послушайте, — сказал он обычным ровным голосом, словно сейчас был ясный, спокойный день и он учил их латыни. — Подумайте, в какие только ужасы мы не превращаем самые обыкновенные вещи на свете. В конце концов, что может быть естественнее рождения? Все рождается. И все умирает — но не сегодня ночью. Это очень упрямый ребенок — вот и все. Все мы пытались покорить его силой; но сила — как известно всякому, кто знает мою госпожу — крайнее и худшее средство для урезонивания упрямцев.
Он умолк. Никто из них не вымолвил ни слова — что само по себе было удивительно. Даже Тимолеон словно окаменел, хотя его молчание казалось не менее нарочитым, чем холодность Цезариона.
Луций кивнул, словно они что-то сказали.
— Вот и хорошо. Как вы думаете, скоро ли нам удастся соблазнить этого ребенка выйти наружу?
— Звучит отвратительно, — заявил Андрогей но, помолчав, вымолвил: — Мы должны сделать так, чтобы мир выглядел привлекательнее, чем темное лоно.
— Правильно, — согласился Луций. — А он действительно хорош?
Андрогей решительно кивнул и продолжил.
— Там, внутри, темно. Скучно. Разве можно предпочесть это место солнцу, восходящему над Фаросом: ослепительно-белому, над голубым-голубым морем. И корабли плывут на свет маяка отовсюду; одни под пурпурными парусами, другие — под белыми, а у многих они полосатые: золотые с алым. А иногда увидишь и зеленый парус над лазурной водой, летящей к белой башне.
— О-о, да ты любишь корабли! Хочешь стать моряком? — воскликнул Тимолеон — и он вовсе не смеялся над братом.
Андрогей, смутившись, резко пожал плечами.
— Просто мне нравится на них смотреть, — произнес он.
Тимолеон кивнул и подхватил:
— Не думаю, что в лоне матери спокойно — не спокойнее, чем в море… А на свете так много прекрасного. Авлос, кифара; их чистые звуки сплетаются в дивный напев. Туба, зовущая мужчин на войну и актеров на сцену. Барабаны, бьющие, как удары сердца. Голос певца — одного из евнухов царицы; они поют так, как, наверное, поют боги — высоко, чисто, и мы знаем, какую цену они платят за свое искусство…
Его перебил Цезарион:
— Подумай, малыш, каково плавать в водах жизни; да, там тепло — но скучно… каждый день одно и то же. Неужели можно предпочесть это прикосновению шелка к коже, или ощущению песка, струящегося сквозь пальцы, или даже уколам боли? Боль — это жизнь. Такова цена наслаждения. Ты помнишь, Антилл, как мы играли в снежки в Белой Деревне — в тот день, когда выпал первый снег? Он был холодным, но мягким, и таял, и тек по шее… — Царь царей зябко повел плечами, но тут же рассмеялся. — Ты визжал, как девчонка.
— Не я, а ты, — с достоинством возразил Антилл и усмехнулся. — Ты помнишь его вкус? Вкус мороза и неба. Он чувствовался даже в вине, хотя оно было сладким и терпким. Тем вечером мы ели жареного вепря — его подстрелил на охоте Антоний. Мы все объелись — наши желудки урчали, как собаки. Чтобы променять все это на темное лоно матери? Да меня тошнит от одной только мысли!
— А запах стоял, как в Элизиуме[70], — с упоением продолжил Цезарион. — От духов моей матери исходил благоуханный аромат цветов. Я помню, пахло розами, жасмином и гелиотропом — не слишком сильно, ровно столько, чтобы придать духам роскошь. Только представь себе, дитя, что ты не выйдешь на этот свет и никогда не почувствуешь столь божественных ароматов. Разве можно не хотеть этого?
Селена подмигнула.
— Ну-у, не все пахнет так чудесно.
— Даже смрад стоит, чтобы жить на свете, — запальчиво сказал Тимолеон. — Все живое живет. И меняется. И не льнет к одним и тем же воротам, считая их самым безопасным местом на свете, до тех пор, пока ворота эти не исчезнут, и мать не умрет из-за эгоизма своего ребенка.
— Мягче, — предостерег Луций. — Бережнее.
Тимолеон строптиво взглянул на него, но подчинился. Это случалось нечасто, по-видимому, юноша просто потерял самообладание.
— Успокойся, — сказал Луций. — Просто успокойся. Вспомни, что такое жизнь.
Он ждал, что хоть один из них заспорит с ним. Но дети, по-видимому, пришли к соглашению или просто не находили иного выхода. Он сам не был уверен, что их усилия помогут, — оставалось только надеяться.
Нельзя думать о смерти. Надо думать о жизни. А жизнью для него была Диона, с непоколебимым ее спокойствием, вернее, годами выработанным умением быть спокойной внешне, покровом накинутым на живое сердце, нежное и страстное. Он все еще видел внутреннюю часть круга и глаза существа, стоявшего там, — дети называли его Пожирателем Душ. Эти глаза приводили в отчаяние, приказывали, насмехались в безапелляционной уверенности в том, что всякая жизнь ведет всего лишь к смерти.
Но до того, как умереть, надо жить. Он вызвал в память образ Дионы, стоявшей на палубе корабля Клеопатры, летевшего на крыльях ветра в Тарс: одетой, как нимфа, и красивой, как любая из богинь. Но тогда вовсе не красота привлекла его, а то, как она смотрела на сына, борясь с желанием сменить гнев на милость и рассмеяться.
Все вернется! Диона снова будет смеяться. Ее самый младший ребенок должен понять то, что поняли его братья. Он еще слишком мал, слеп и невежествен, чтобы знать, что такое жизнь. Но он научится знать это.
Никогда еще он не молился с такой страстью, как сейчас, никогда до такой степени не собирал в кулак волю, чтобы соблазнить строптивца войти в этот мир. А тот сопротивлялся со всей силой невежества.
— Вспомните, — сказал Луций детям, молча смотревшим на него. — Вспомните.
Воздух стал густым, густым, притихшим, наполненным ужасом, словно перед грозой.
Что-то шевельнулось в душе Луция — что-то похожее на надежду. Перед глазами предстал образ: Диона, словно пробуждавшаяся ото сна, потягивалась и глядела по сторонам еще мутным, полуосознанным взглядом.
— Что? — спросила она.
— Диона! — позвал Луций.
Она обернулась к нему, как делала всегда, просыпаясь, улыбнулась, сонно прижалась к нему и потянулась с поцелуем.
Нет, она здесь еще не вся. И все же она здесь. Ее губы были теплыми и одновременно холодными. Он прижимал ее к себе и вместе с тем странным образом находился внутри нее, борясь с волнами боли, разливавшимися по ее телу, не желающими отпускать.
— Хватит, — приказывал он боли. — Заклинаю, проклинаю тебя — хватит!
— Нет, — сказала Диона внутри него, снаружи него. — Так думают все мужчины. А ведь раньше ты был мудрее. Мы уговорим его. Мы заманим его. Смотри!
Да, это словно ворота, запертые изнутри. Но замком была плоть, а плоть может быть податливой, может сдаваться.
— Ну же, — проговорила Диона. — Иди, дитя, иди в этот мир. Выйди наружу и взгляни на солнце. Посмотри, какое оно.
А потом пришла боль — страшная, убивающая надежду, и нет слов, чтобы рассказать о ней. А потом… потом боль растаяла. Накатила волна и выплеснулась на берега всех морей мира.
33
Измотанный столькими страданиями и борьбой с неизбежностью Луций Севилий почти с разочарованием смотрел на маленькое красное сморщенное существо на руках Гебы.
— Дочь, — сказал он. — У меня дочь.
Геба широко усмехнулась. Луций, все еще в тумане нереальности, украдкой заглянул в крохотное личико. Оно было неожиданно, ошеломляюще уродливым.

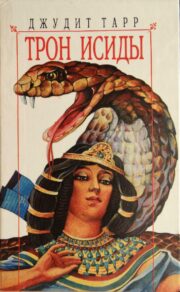
"Трон Исиды" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.