— Но есть вещи не менее страшные, чем смерть, — мрачно сказал Тимолеон.
— Хватит. Перестань, — остановила его Диона и заставила себя вернуться к письму: — «Я остался подле Антония и больше об этом не заговаривал — а он не их тех, кто спрашивает совета в своих военных планах. Без обозов мы действительно быстро дойдем до Атропатены. Правда, как только равнина кончилась, нам опять пришлось тащиться с черепашьей скоростью, карабкаясь вверх-вниз по бесконечным горам. Мы вошли в Мидию вчера: местность там была более-менее ровной, а люди попрятались или бежали. Даже без имущества наша армия могуча, мы идем, словно растекаясь по стране, как гигантская волна, с походной песней, когда в горах достаточно для этого воздуха.
Здесь, в самом сердце Азии, мои оценки стали меняться. Я понял, почему Александр шел все дальше и дальше в глубь Востока. Его гнала вовсе не жажда завоеваний; это было нетерпение и любопытство — дойти до горизонта, перешагнуть через него, идти дальше и найти новые земли, новые города, новые пути, новые расы людей. Но его армия выдохлась, растеряла свое мужество прежде, чем достигла вод Великого Океана. И это тоже можно понять. Очень немногие могут все бросить и, воодушевившись лишь пылом души и силой духа, идти вперед, руководствуясь только эфемерными путеводными звездами. И я задумался вот о чем: хотел ли Александр идти вперед, когда армия стала ему помехой, жалел ли, что он — царь, а не простой смертный, свободный в своих поступках? Не собирался ли он продолжить свой путь к краю света в одиночку, на свой страх и риск?
Но здесь я должен одернуть себя. Я — не Александр и не Антоний. И уместно ли их сравнивать? У Антония своя цель: он должен завоевать эту страну для Рима. Потом он вряд ли захочет покорять Индию. Антоний знает пределы своих возможностей. Как только сокровища Атропатены станут нашими, мы возьмем Парфию за горло. Нам останется только сжать его, и тогда все царство — наше. Так говорит Антоний, и кто я есть, чтобы оспаривать или комментировать его слова?
Ну что ж, до свидания, госпожа моя, до моего возвращения. Я привезу тебе свою долю сокровищ Парфии; ты можешь посмеяться над ними, обрядить в них ослика Тимолеона или раздать нищим на улицах. Мне до этого нет никакого дела — только бы снова увидеть тебя».
— Ох, да он поэт! — воскликнул Тимолеон лишь с крохотной ноткой насмешки. — Мама, а ты выйдешь за него замуж? Он ведь обожает тебя!
Щеки Дионы вспыхнули. Ее нахмуренные брови не возымели должного эффекта — Тимолеон лишь усмехнулся и подмигнул.
— По-моему, ты тоже его обожаешь, — заметила она.
— Ну-у, — ответил он, лишь слегка озадаченный. — По-своему, да. Может, ты часом слышала разговорчики моих друзей о Недоступном Красавце, как они его называют. Он равнодушен ко всем — к женщинам, к мужчинам, к мальчикам. Ко всем, кроме тебя. Это немножко необычно, но здорово.
Диона подавила вздох.
— А ты, надо полагать, Доступный Красавец?
— Надеюсь, что нет, — ответил он с едва уловимой разубеждающей резкостью. — Просто мне нравится думать, что я не совсем урод и на меня, может быть, приятно посмотреть. Мама, так ты выйдешь за него замуж? У всех же глаза на лоб полезут!
— Несомненно, — согласилась она. — А разве тебе не нужно идти на симпосий[50]? С армией обожателей?
— Их только трое, мамочка. Всего трое. И я намерен разбить им сердце, влюбившись в танцовщицу. Но ты не разбивай его сердце, мама. Я тебе этого никогда не прощу, так и знай.
Он чмокнул ее в лоб и умчался на свой симпосий — Диона знала, что эти пирушки вовсе не были такими дебошами, как пытался изобразить Тимолеон.
Богиня-кошка, свернувшаяся у ее ног, подняла голову и сказала:
— Мя-яу!
— Вот именно, — строго заметила Диона. Но она улыбалась.
23
Александр Гелиос и Клеопатра Селена пришли в этот мир с величием, под всполохи огней. Их брата осеняли тишина и покой; благоприятные знаки предшествовали его появлению на свет, тихим, легким и почти стремительным было и само его рождение. Даже для новорожденного он был спокойным ребенком, большеглазым и молчаливым.
Но все же у Дионы не было никакого сомнения, что этот ребенок, как и его братья, рожден стать царем. Мать назвала его в честь величайшего из всего рода — Птолемей Филадельф[51].
Младенец нес благородную тяжесть своего блистательного имени без малейшего усилия. Диона, склонившись над колыбелью наутро после его рождения, положила палец ему на лоб. Он важно и пристально уставился на нее. Диона подумала, что он может стать кареглазым и белокурым.
— Ты назвала его верно, — сказала она.
— Он принадлежит к богам, — ответила с ложа Клеопатра. Она почти не устала — таким легким было рождение ребенка, благословенное, как назвали его жрецы, и благословен был плод его. Жрецы желали, чтобы появление на свет царственного младенца являлось благим знаком победы Антония в Мидии. Того же хотела и Клеопатра.
— Да, я вижу, — согласилась Диона. — Он весь светится своим божественным предназначением. И это сияние — такое спокойное, тихое, как и все в нем. Я смотрю на него и думаю о летних вечерах — и о кошке на охоте.
— Покой вместе с опасностью, — улыбнулась Клеопатра. Да, такие мужчины в твоем духе. Как, по-твоему, похож он на отца?
— Нет, — сказала Диона. — Он настоящий Птолемей.
— О боги! — шутливо воскликнула Клеопатра.
Диона повернулась к ней.
— Это — благородное наследство.
— Да, особенно нос, — засмеялась Клеопатра и вздохнула. — Ну да ладно. Могло быть и хуже — слава богам, что он не родился девочкой.
Диона подошла к ее огромному ложу и села на краешек, поджав под себя ноги, как любила сидеть в юности. Клеопатра помнила это: она улыбнулась, потянулась и весело подмигнула ей; хорошее настроение не покидало царицу со времени появления ребенка на свет.
— Ты осознаешь, — сказала Диона, — что ты дала Риму и Египту трех сыновей и дочь, которая станет царицей? Надеюсь, ты гордишься собой?
— А разве когда-нибудь я не горжусь собой? — опять подмигнула Клеопатра.
— Ты знаешь, что я имею в виду, — очень серьезно ответила Диона.
Клеопатра кивнула. Они замолчали, и молчание их было спокойным и непринужденным, а ребенок уснул, пока нянька качала его колыбель. Диона не спала всю ночь, но почти не устала. Творить мир для этого младенца было так же легко и просто, как произносить слова. Она не позволяла себе думать, что все оказалось слишком просто. Он был Птолемеем — и этим все сказано. Для Птолемеев мир уже давно сотворен и только ждет, когда они придут и объявят его своим — не то что Гелиос и Селена, нуждавшиеся в новой вселенной.
Все это напоминало состязание. Три сына и дочь. Сын — Цезарю, еще два — Антонию, а дочь — Клеопатре. Если будут еще — слава богам. Но главное в том, что род Лагидов в Египте уже не пресечется.
Ум Клеопатры уже переметнулся с дел житейских на дела государственные — Диона хорошо знала этот взгляд из-под слегка нахмуренных бровей. Пусть себе спокойно думает, она подождет.
Диона откинулась на золоченое изголовье ложа и закрыла глаза. Она вовсе не собиралась спать, но голос Клеопатры, казалось, донесся откуда-то из снов.
— Октавиан, — промолвила царица. Она никогда не произносила этого имени без яда, но сейчас язвительная нотка была тут же приглушена, и голос прозвучал задумчиво. Диона заморгала, пока не стала ясно видеть лицо Клеопатры. Та казалась погруженной в свои мысли. — Интересно…
Диона тряхнула головой, отгоняя сон.
— Да нет. Ничего новенького — ничегошеньки. Просто… он заставляет меня думать. Я презираю его. И всегда буду презирать. Но ты заметила, как ему невольно удается — чтобы он ни делал — заставить думать о том, что делает? И додумывать — каплю за каплей? В нем нет ни капли верности кому-либо, ни чести, ни воспитания — даже элементарной способности выполнять свои обещания. И все же, Диона… И все же… А что, если то, что он говорит о себе, правда? Что он так же велик, как Цезарь? А вдруг он еще более велик?
— Это невозможно. Цезарь был сам ум и очарование. У Октавиана нет ни того, ни другого.
— Без ума можно обойтись — иначе как выжила бы вся эта орава придворных? Очарование — пустой звук, если за ним не стоят культура и ум. Я всегда считала, что такие качества необходимы мужчине, призванному править, но теперь начала сомневаться в этом. Октавиан не скрывает своей уверенности, что он — и только он — способен править Римом так, как должно им править; дать мир империи, не знавшей ничего, кроме гражданских войн, со времен, когда Ромул убил своего брата Рема у стен новорожденного Рима. А вдруг эта вера — истина? Что, если мы выбрали не того супруга для царицы?
— О, богиня! — ахнула Диона. — Да ты просто не в себе!
— Не в себе, — резко согласилась Клеопатра и, помолчав, продолжила:
— Конечно, я преувеличиваю. Я никогда не смогу проявить благосклонность к этой холодной рыбе. Но, как бы ни любила я моего римского льва, я знаю и всегда знала, что кое-чего ему не хватает: величия, блеска ума, способности править в мире и покое так же, как и на войне.
— Зато это есть в тебе. Вот почему боги и свели вас вместе. Антонию подвластно искусство войны, тебе дано искусство править и дар мира. Вместе вы — гармония целого.
— Да… — молвила Клеопатра с оттенком сомнения. — Я хотела бы… о, боги, я хотела бы, чтобы эту тварь удавили еще в колыбели.
— И все мы — тоже. И многие римляне хотели бы того же. Октавиан не относится к людям, пользующимся любовью своих сторонников.
— Но, тем не менее, он является их вожаком. У него нет ни малейшего таланта воевать. Но он умеет изворачиваться и интриговать, как любой восточный царек. И не колеблется. Его не мучают угрызения совести — ни малейшие. Он неуязвим.

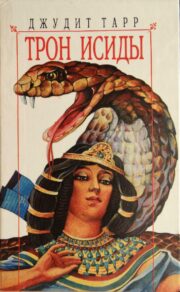
"Трон Исиды" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.