– Что, Трошка, – сказал он, – легче? Ожил. Теперь и лечить можно. А я твой доктор. Зовут меня Иван Афанасьевич.
Трофим помнил доктора ещё на дороге, но с койки Иван Афанасьевич таким длинным не казался, хотя роста был высокого и лицом походил бы на скандинава, если б не черты крупные, но по-славянски смягчённые. Нарушая правила, не любил докторской шапочки, а если надевал так на самый затылок, как лихой матрос бескозырку. Заведуя отделением, замечание мог получить лишь от главного врача, а тот прощал ему проступки, посерьёзнее шапочки, учитывая золотые руки и независимый характер. Доктор сразу был заметен в маленьком городке, почти деревне, будто здесь он человек случайный – не для того лепит природа подобные лица. Вышел из столичной медицинской семьи, начинал с размахом и блеском, и никогда бы не видели здесь этого доктора, не привези он с четырёхлетней войны, из полевых госпиталей, где бывало сутками, держась только на спирте, резал, резал, резал – не привези он оттуда тяжёлую, во все века не излеченную на Руси болезнь – пьянство.
Пошло-поехало. Из клинической больницы просто в больницу, потом в поликлинику, в город поменьше, а там и вовсе в глушь. Сердце частит, руки дрожат и месяцами нельзя работать. Жена, четыре года верно ждавшая его с фронта, не выдержала. Ушла. Он и плохо помнил, как уходила, пьян был. Но потом опять всё поломалось, а верней он сам в себе сломал где-то на последней уже грани. Посмотрел на дрожащие руки, помолчал сам с собой. Сказал: «Всё. Хватит». Поставил дома бутылку водки, чтобы не было причин пить чужую, но не трогал её больше года, пока не почувствовал: теперь всё. Удержался. Теперь можно, теперь не опасно. Можно распить с приятелями. Но приятелей не оказалось. То есть, среди прежних алкашей нашлись бы, но это не годилось, а кроме них уже никого близко не видел. Вздохнул и поставил обратно на полку.
Медленно приходил в норму. Рука опять стала твёрдой. Здоровье, конечно, не то: годы сказывались и фронт, да и многолетнее пьянство не прошло бесследно. Однако работать уже мог и обосновался здесь, в больнице. Сначала рядовым хирургом, а скоро начал заведовать отделением. Сошёлся с местной женщиной, был с ней заботлив хоть и не ласков. Жил в небольшой комнате и лучшего не добивался. Возил из столицы книги, но медицинских почти не покупал: с научной работой было покончено. Годы ушли. А для практики здесь его уменья на сто лет хватит. Звал бывший однокурсник, а теперь профессор, к себе, но желания уже не было. Да и в подчинение к старому товарищу идти не хотелось.
– Что умею, то могу. Останусь на месте.
Иногда всё же «находило». По два-три дня не видели его в отделении. Отвечали просто «нет на месте» хоть настырному больному, а хоть и начальству из области. И начальство, и больной, если был он здешний, поселковый, знали, что Иван Афанасьевич спит сейчас у себя в комнате, а может и просто во дворе в пыли, проснувшись, нащупает бутылочку и – буль-буль! – из горлышка в горло. Это-то и прощали ему за золотые руки. Да он и не позволил бы указывать. Знал: не с кем его здесь, в районах сравнивать. Он тут – лекарь. Такого здешней больничке скоро не сыскать.
В народе российском к пьянству всегда было отношение двойственное. С одной стороны существовали, постоянно обновляясь, лозунги типа «пьянству бой!» но, честно признаться, никогда тот бой не был особенно кровопролитным, до победного конца. Ибо с другой стороны жили пословицы: «пей, да дело разумей» /однако ж – «пей»!/, «пьяный проспится, а дурак никогда» и прочие, не то чтобы напрямую одобряя грех винопития, но и не осуждая бесповоротно. Когда о человеке говорят что, мол, пьёт – не всегда и поймешь, осуждая говорят или уважительно. Выпивка почитается делом обстоятельным, не зря в России мало кто держит дома бутылочку для прихода гостя: держать можно, если сам не соблазнишься. Или ещё посидеть с соседом, выпить рюмку-две, а прочее оставить в бутылке до следующего раза. Чужда здесь умеренность симпатичной Европы: уж коли зашёл сосед в гости, так захватил «горючее» а хозяин еще сбегает в магазин или к знакомой самогонщице, а хозяйка не рюмки – стаканы поставит, и себе тоже! Да закуску всю, какая в доме нашлась и – дай Бог здоровья! Пока ёмкости не опустеют. А потом, всё. Потом – до следующего раза. Вопрос только, скоро ли наступит следующий раз? У доктора теперь наступал редко, и то, слава Богу. После отлучки бывал он помят лицом и чаще отдыхал на лестницах.
Трофим показал глазами на блоки:
– Долго ещё?
– Шесть недель, – сказал доктор. – Теперь уже пять.
Так он узнал что беспамятство, сон-кошмар и переливания крови тянулись неделю. Дежурили сестры, чтобы вовремя сделать укол или дать кислородную маску. Днём и ночью приходил Иван Афанасьевич и каждую ночь никто не знал, проживёт ли Трофим следующую. Кроме переломов болевой шок, сотрясение мозга и другие, как это здесь называлось, «сопутствующие явления». Но теперь самое страшное позади.
Ему рассказали, что за телом Кирилла приезжали мать и брат, и увезли хоронить в Питер. Мать долго сидела у койки Трофима, но он так и не пришёл в себя.
Мучила боль, которой он в беспамятстве не чувствовал. Боль жила: начиналась в переломанных бёдрах, росла, заполняла ногу, переходила какой-то, почти нестерпимый рубеж и стихала, будто задрёмывая. Потом оживала снова. Стонать не полагалось.
– Терпи, казак, – говорили ему, – здесь все больные.
Он терпел. Вечером Иван Афанасьевич говорил сестре:
– На ночь морфий.
Сестра записывала в книгу, делала укол, и Трофим засыпал. Позже доктор признался, что обманывал: морфий дали только раз, на дороге. А в больнице, слабый понтапон.
– Не хватало выпустить тебя отсюда морфинистом!
– Да и мало морфия, – сказала сестра, но под взглядом доктора осеклась мгновенно.
...Сухая жара серединного российского лета кончалась, вечерами тянула прохлада. Осина в больничном дворе зажелтела. Её да немножко белёсого неба – ничего больше с койки не было видно.
– Осень в наших краях хороша, – сказал доктор. – Это здесь сказано: «Люблю я пышное природы увяданье». Но ты её в палате проведёшь. Так-то.
– А зиму? Я пацаном лыжи любил, а теперь у нас нет снега. Говорят, что изменения в климате. Я зиму дождусь?
– Бедро заживает примерно полгода, – сказал Иван Афанасьевич. – У тебя сломаны оба. Считай, болеть тебе год и о лыжах пока не думай.
– Они что, по очереди заживать будут? – буркнул, как огрызнулся. Но доктор только погладил по голове.
– Запас крови и заживляющих сил в организме не бесконечен. У тебя он разделяется пополам, и процесс идёт вдвое медленнее. Понял? – он отогнул одеяло, взял ногу и покачал в месте перелома. Хмыкнул удовлетворённо. – Срастаются. Доволен будь, что не придётся оперировать.
Через каждые три часа делали уколы, сразу по нескольку.
Оба врача и сестра опять пришли вместе: пора было снимать грузы. Когда вынули спицы и убрали кирпичи, Трофим показался себе невесомым. Странно было, что голова, как ей и полагается – выше ног. Снова повезли на рентген, потом оставили в коридоре на каталке.
– Побудь, – сказала санитарка. – Небось, надоело в палате?
Коридор был короткий, и здесь тоже стояли койки: мест не хватало. Из кабинета выходили врачи.
– Заживление идёт нормально, – говорил кому-то Иван Афанасьевич. – Везите в гипсовочную.
Гипсовочная это маленькая комната со столом посередине. Спина лежит на холодном столе, как в провале, ноги приподняты на кронштейнах, а голова на подголовнике. На табурет санитарка поставила обыкновенный эмалированный тазик, в каких стирают бельё, в тазике развели беловатую массу. Принесли бинты, плотные, вроде портянок. Иван Афанасьевич обмакивал их в гипс, бинтовал ногу от пальцев к бедру и ещё вверх по туловищу до самой груди, потом вниз и на другою ногу. Стало тепло и мокро
Вокруг его койки на стульях расставили тринадцать канцелярских электрических ламп. Больше не было. Лампы направили на загипсованного Трофима и включили. В их тепле от гипса поднимался пар.
– Лежи. Подсушивай репутацию, – улыбнулся молодой доктор.
– Чего сушить?
– Жопу, – сказал Иван Афанасьевич. – Задница это базис, а репутация надстройка. О ней дальше подумаем! – и пошёл к выходу. Трофим поднял голову с подушки, посмотрел на бинты, закрывшие тело от груди до ступней. Вздохнул.
– Не переживай, – посочувствовал Иван Афанасьевич. – Теперь ты более или менее сойдёшь за Аполлона. По специальности.
Осина посередине двора зажелтела, потом листва опала и в небо торчал голый ствол, а ветви засыпало снегом. От того, что лежать нужно долго, стало, как это ни странно, легче и спокойней: не было напряжённого ожидания. Он привык к серым стенам палаты и к своему месту возле окна, к монотонности больничного существования и смене соседей. Больнице не полагалось травматологического отделения, а хирургические больные долго не залеживались. Был дед с язвой двенадцатиперстной кишки. К болезни дед относился почтительно, язву называл «она» и считал, что «у её» свой ндрав, которому «не посуперечишь». К деду приходила жена. Такая же старая, как и он сам она казалась ещё старше от малого роста и сухости, а ещё и от вечных своих бабьих забот. Дед и её не звал по имени но, в отличие от язвы, именовал непочтительно: «старая» от чего «она», то есть язва, приобретала ещё больший вес и значительность. Жена приносила деду передачи в корзине, куда сёстрам заглядывать не разрешала – бабка была скандальная. После её ухода сёстры отбирали неположенные мясо или бражку. Строгий с женой, дед им возражать не решался и даже пробовал заигрывать, верно, по старой привычке. Выпить и закусить всё-таки успевал, после хватался за живот, ругая «её» и было непонятно кого именно: жену или язву. Но ругался дед почтительным тоном и значит скорее язву. Деда оперировали и, как только он малость, по здешнему говоря, «оклемался», выписали, взяв с бабки обещание соблюдать диету. Обещанию не верили, но с местами было туго. Лежал парень с переломом шейного позвонка: нырнул в озеро и головой вышиб дно утонувшего бочонка с остатками глины. Застрял плечами, да так с бочонком и всплыл. Его загипсовали от пояса вверх, голова помешалась в специальном куполе с вырезом для лица. В этот вырез, придерживая гипс руками, парень высовывал голову и повторял «номер» на бис. Прозвали его космонавтом, и вправду был похож. Всякий народ побывал в палате: и колхозный бригадир, которому отрезало руку жаткой, он матерно ругался в адрес виноватого, и заведующий книжным магазином, что схватился по пьяному делу бороться с соседом, а сосед был силач, известный в здешних местах. У завмага треснули два ребра сразу, он стонал и хватался за грудь, но ближе к выписке стал нахальным, повторяя, что и он-де в районе человек не последний, и за редкую книгу всё всегда получит, всего добьётся. Книги здесь действительно ценили, места были не совсем обыкновенные, можно даже сказать, знаменитые были места. Совсем рядом «на попутке, так всего-ничего» – говорил дед, совсем рядом располагался заповедник, известный многим и здесь, и далеко, и даже в других странах. Хоть и не было в заповеднике редких зверей или птиц, ни привезённых издалека вечнозелёных деревьев, и если ценили дерево, так не за породу или красоту, а только за век, впрочем, не такой уж и долгий.. Всего-то растёт оно вторую, а то третью сотню лет, и гулял под ним когда-то невысокий, лёгкий человек. Не был он державной властью, не трепетали от его слова подданные, не летели фельдъегеря в столбовые пути. Полководцем знаменитым тоже не был, царства и народы не сотрясал и конных полков, артиллерийских бригад или хотя бы простой пехоты под началом своим не имел – оружием его было только перо, да и то не стальное, а гусиное. Зато написанное им живёт, и невидимая нить соединяет его и с древними, и с новыми авторами: каждый рассказывает о своём времени, о героях, о мире.

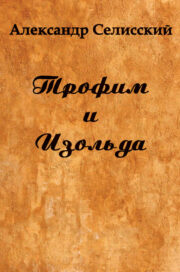
"Трофим и Изольда" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трофим и Изольда". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трофим и Изольда" друзьям в соцсетях.