Там, в обширном караульном помещении в приземелье, они и спали, и ели, и развлекались как умели, и готовили к бою свое оружие, всегда настороже к неожиданностям. В городе, при конюшнях, оставался только сменный наряд, достаточно сильный, впрочем, чтобы дать отпор, если вздумают напасть на него. Ходить по коломенским улицам, где дворян и холопов пришлой сотни встречали недобрые взгляды и сжатые кулаки стрельцов, сотник Рожнов разрешал только большими ватагами. Даже походы на рынок за провизией для караула и для узницы напоминали скорее вылазки осажденных.
Порою Федору думалось, что главным человеком в городе был не воевода, не стрелецкий голова и тем более не он сам, а Марина. Именно вокруг нее стягивались кольца противостояния, за нее боролись видимые и невидимые соперники. Понять бы только – зачем… Сама узница выглядела совершенно безразличной к происходившему вовне. Она была слишком горда, чтобы удостоить своим вниманием низкую грызню «московитов» за то, кто будет ее тюремщиком. Казалось, она вовсе не заметила, что ее перевели из прежней каморки в более удобное помещение, что спала она теперь в уютной постели и обедала за привычным столом. Эта женщина слишком любила свободу и слишком отчетливо осознавала ее утрату, чтобы утешаться подобными мелочами. Почтительное обращение стражи она воспринимала как должное и отвечала на нее ледяной любезностью, словно госпожа – слугам. Служанка Аленка, наоборот, пользовалась полным доверием и любовью Марины… Такое сердечное отношение к бедной прислужнице удивляло Рожнова: слишком не походило это на высокомерный шляхетский нрав, который приписывали Марине на Москве.
Как-то раз Федор приказал позвать Аленку к себе. Хотелось заглянуть в душу этой необычной прислужнице – быть может, так получится хоть немного приоткрыть железные врата, затворявшие путь к душе самой Марины!
– Скажи мне, девица, отчего ты Маринке так верна? – сурово начал он. – Отвечай правдиво, доносить на тебя не стану. Но мне все знать надобно, потому как все сейчас от меня зависят. И Маринка твоя, и самое ты…
Алена молчала, только глаза ее ожесточенно сверкнули.
– Молчи, коли хочешь, – недобро сказал сотник. – Я за тебя скажу. По моему разумению, родитель твой, а то и вся семья с ворами-самозванцами были и многие от них получили богатства и блага.
– Богатства? Это у меня-то? – зло рассмеялась Аленка. – Вон платье одно, монастырское, посконное, да и то сестры дали. Пастила в кармане припрятана – вот и все мои богатства.
– Ты не кипятись, девица… Это я не для пустого любопытства пытаю. Знаешь ли, что в моей службе главное? Людей уметь видеть. Иначе нипочем они за тобой не пойдут.
– Ишь ты! – издевательски протянула Аленка. – И что же ты во мне разглядел, господин хороший?
– А то же, что и в себе. Верность бескорыстную. Ты за память служишь. А вот родитель твой, чай, с ворами ради имения и прибытка пошел, а после и утек с ними. Знаешь, сколько таких перевидал? Ты глазищами-то не сверкай, смиренница! Ты правду говори!
– Родитель мой, упокой, Господи, его душу, коли прибытки да имение добыл бы, нипочем бы не бросил меня по чужим людям мыкаться. Всего и было-то в нем, что сомнение. За столом, при людях, сказал как-то, что на Москве по приказу Васьки Шуйского не самозванца лютой смертью убили, а подлинного государя, Димитрия Ивановича. Вот и все. Донесли на моего батюшку. А дальше – сам должен знать, у Васьки расправа была короткая. В куль да в воду. А что было имения – воевода нынешний, князь Кутюк, поживился. Вот я теперь при монастыре и живу.
Федор внезапно почувствовал себя неловко. Необычно неловко. Нечасто доводилось ему смотреть в такие несчастные и такие злые глаза.
– Эх, бесталанный был твой родитель, Аленка… – примирительно сказал он, отводя взгляд. – Упокой, Господи, его душу молитвами святых угодников и мучеников. Много в те годы разных людей сгноили. Васька Шуйский зверь был. Лютовал со страху, а не с разуму.
– А позволь, сотник, и мне тебя спросить – честь за честь. Только отвечай прямо, как воинскому человеку пристало. Не лукавь и по сторонам мышью не юли! – решилась спросить девушка.
– Экая ты воительница! – облегченно усмехнулся сотник. – Ну, спрашивай, я как на духу отвечу. Ты ж духовного, я чаю, звания? Может, и грехи мне отпустишь…
– Не монахиня я еще. Послушница… – с вызовом ответила Алена. – А грехи пусть Господь отпускает, не в людской это воле. Ты когда царя Димитрия Ивановича на Москве убивали, на чьей стороне был?
– Не знаю я никакого царя Димитрия Ивановича, – отрезал сотник. – А когда самозванца, Отрепьева Гришку, кончали, я у Васьки Шуйского в самом что ни на есть избранном дворовом полку был. При мне из Гришки душа вылетела. Пожалели мы его с ребятами. На поругание сволочи живым не отдали. Из огненного боя стрелили, чтоб умер смертью чистою, честной, воинской. Хоть и вор он был, а молодец, каких мало. Ну, упокой, Господи, его душу.
– Значит, цареубийца ты, сотник… – почти сочувственно сказала Аленка. – Какого государя погубил! Грех на тебе великий.
– Какого я такого государя погубил?! – не на шутку рассердился сотник. – Да он ляхам на Москву дорогу показал! Над верой православной глумился! Ляхи, что с ним пришли, девиц разного звания – боярышень и монашек даже – бесчестили! Воин он был знатный, это да. Но государь – он не воинского звания, а помазанник Божий! А чем Гришка на царство помазывался-то? Медом да винищем? На пирах с незваными гостями?
– Помазан он был честным миром от животворящего Креста Христова Патриархом Всея Руси Игнатием, аль не так? – твердо ответила Алена. – А государь он был добрый да милостивый, многие блага расточал простому люду. Хотел он, чтоб все на Руси жили счастливо, вольно. А не любо на Руси жить – и уходили бы куда глаза глядят. Только боярам, ворам да кровопийцам поперек горла Димитрий Иванович был, что кость. Ваську твоего Шуйского он помиловал, в чести великой держал, а как тот ему отплатил? Изменой да убийством злодейским. С худыми же сватами ты на кровавую свадьбу тогда ходил, сотник!
Федор неожиданно поймал себя на мысли, что с этой бедной послушницей, нищей сиротой, он спорит и пререкается, как с равным и здравым мужем. Словно не он – голова в этой башне, а Аленка эта вместе с Маринкой. Не могла Алена сама дойти до такого разумения, ну никак не могла!
– Это тебя что, Маринка в свою веру обратила? – жестко спросил сотник. – Не с Маринкиного голоса ли поешь, черница?
– Смотри за собой, сотник! – лукаво сказала Алена. – Как бы и тебе с ее голоса не запеть! Многие на Руси с ее голоса пели!
– Слышь, Аленка, – отшутился Федор, – я, вообще-то, только когда пьяный пою. Либо когда со всеми, в строю, на походе. А так – не певец я! Шла бы ты лучше на поварню приглядела, али за дровами, али по какой другой бабской надобности! А то переспоришь сотника, и выйду я перед своими молодцами совсем в смешном виде!
– Все-то вы, мужики, баб боитесь! – сказала ему напоследок Аленка. – А иногда и мужику перед бабой проспорить не грешно! И у нас своя правда есть! Вот, Мария Юрьевна говорила, что в латинских землях рыцари перед красными девицами вовсе на коленях ползают!
Федор окончательно решил обратить разговор в шутку, быстро обернулся по сторонам и лукаво подмигнул упрямой чернице.
– Ты, того, слышь, Аленка! Хочешь, пока никто не видит, и я перед тобой поползаю, лишь бы ты шла отсюда поскорей?
Алена вдруг посмотрела на него по-другому, серьезно и печально. Сказала:
– Опоздал ты, сотник… Всем ты хорош и собою пригож – ежели отмыть да приодеть тебя, и разумом не обделен – пытливый в тебе разум, и обходителен – у нас таких мало… Только есть у меня суженый, верна я ему буду не по корысти, а по сердечному велению! Прощайте, пойду я по хозяйству хлопотать, как вы мне, господин хороший, велите…
«Вот чертовка! – озадаченно подумал Рожнов. – Тут, глядишь, осаду не только снаружи, а изнутри выдерживать придется. Задал ты мне службишку, надежа-государь Михаил Федорович…»
Коломенский посад, 1615 год
С появлением в Коломне Федора Рожнова в горестной жизни узницы наступил некий просвет, долгожданное облегчение. Из жалкой каморки на самом верху башни ее перевели в оружейную – достаточно просторное и не слишком темное помещение. Боевой припас Рожнов велел снести вниз, в караулку. Пища узницы тоже стала заметно лучше, а иногда Алена добавляла к рациону узницы коломенские сласти, подарок Гриши Пастильникова. Сама Алена теперь, почитай, каждый день была при Марине, в монастырь почти не возвращалась. Служанка спала тут же, на деревянном топчане, на соломенном тюфячке, ничуть не стесняясь неудобством. Иногда Алена навещала мать игуменью, жадную до новостей из башни. Но игуменье и монастырским сестрам девушка рассказывала только то, что никак не могло навредить Марине. Мол, молится горемычная днями и ночами напролет, молитвы свои латинские читает али плачет. А о чем несчастная ляшка думает – бог весть…
Грише Пастильникову Аленка в лавке его шепотом, таясь, рассказывала иное. Говорила, что сотник Рожнов на узницу заглядываться стал. В оружейку к Марии Юрьевне часто заходит, разговоры долгие ведет, а ее, Алену, вон выставляет, чтобы бесед их тайных не слушала. А после тех бесед сотник словно сам не в себе – задумчивый такой да грустный. Сядет у себя в караулке, голову рукой подопрет да в одну точку смотрит. Товарищи перед ним кружку с медовухой или брагой хмельной поставят, так он ее выпьет и опять думает… А о чем думает – бог весть!
Полусотник Иван Воейков Алене так сказал: «Видно, Маринка твоя нашего сотника околдовала… Смурной он стал какой-то… А раньше веселый мужик был. Перед бражкой не сидел в затмении… Все вы, бабы, – колдуньи! Одна напасть от вас!» И после этих слов он Алену пониже спины пятерней и ухватил. Так она стукнула его тряпкой по морде наглой да убежала от греха подальше!
– Ишь ты, разошелся полусотник, скотина этакая! – осерчал Григорий да как вдарит кулаком по прилавку. Громко вдарил, Алену в краску вогнал. Она Гришу угомонить хотела, да он не послушался – сердился все да кричал. Ну точно дитя малое!

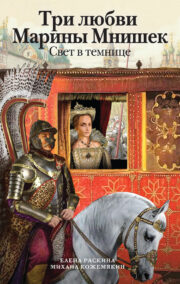
"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы
Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.