– Езжай, Васька, немедля на двор к князюшке Кутюку При… как там его дальше… Чинно, со всем почтением вручишь ему грамотку в собственные его воеводские ручки да обскажешь на словах: челом-де бью и скорым часом сам к нему пожалую! Ныне же срочное и тайное государево дело свершаю. После поклонись пониже – башка, чай, не отвалится – и, минуты не медля, дуй прямым ходом ко мне! Коли выпустят…
– А коли не выпустят? – угрюмо спросил Васька, пряча грамоту под шапку.
– Не выпустят, так я приду – выручу тебя! – пообещал Федор, сердцем чуя, что, скорее всего, так оно и будет, да только выручать своих нелегко станет.
Васька вдруг скорчил плаксивую мину, удивительно не вязавшуюся к широкой лютой роже здоровенного детины, и попросил жалостно:
– Ты уж, Федюшка, пожалуй, не оставь меня в злой неволе, Христа ради!
– Сказал: не оставлю! Ты друг мне, а мое слово крепко. Пошел!!
Васька приосанился, по-особому присвистнул – ученый конь сразу взгорячился под ним – и прянул галопом в узкие улочки, только грязь из-под копыт. Федор зло стер попавшую ему на бороду черную каплю и махнул рукой сотне:
– Заворачивай ошуюю, братцы! Вдоль стены, рысью!..
Кони борзо взяли с места и пошли размашистой рысью – под привычный лязг стремян и ратного железа.
– Постой, постой, господин сотник! – бросился было к Федору воротный пятидесятник. – На воеводский двор не туда! Я покажу…
Недосуг было, и Федор только прикрикнул на докучного:
– Посторонись, стопчут!
И зря. За спиной тотчас надсадно задребезжал сполошный колокол: стрельцы били тревогу. Неласково встречали государевых людей в Коломне, береглись, как от воров! Не пришлось бы теперь башню с Маринкой боем брать! Так подумал Федор, а рука уже привычно отмахнула сотне, и всадники пустили коней во всю прыть.
Вот она, проскочила мимо Грановитая башня, приземистая, выпиравшая острыми углами стен… Городской любопытный люд сбегается поглазеть на конных, а кто на пути – шарахается по сторонам… Разномастные городские псы загавкали и стаей понеслись в угон сотне… Ребятня, голоштанная и чумазая, присоединилась к псам, возбужденно вереща тонкими, будто птичьими голосами… Им – забава! Вот зияют прямо в стене, словно плохо затянутая рана, Михайловские ворота, заложенные камнем еще во времена осадного сидения от мятежных ратей Ваньки Болотникова…
Доехали! Круглая башня Коломенского кремля выросла впереди словно из земли – мощная, высоченная, круглобокая, в седых наростах мха на буром кирпиче. Казалось, давила и угнетала она своей неприступной тяжестью, и где только нашлось бы в этом каменном столпе место для маленькой пленницы…
– Стой! – Сотник выкинул вверх согнутую в локте руку, и конский топот за его спиной замер. Натягивая поводья, государевы дворяне осаживали коней, и каждый с удивлением и потаенным страхом таращил глаза на великаншу-башню, даже те, кто видывал ее прежде.
– Братцы, кто упомнит: двери в нее, окаянную, с затына[70] или с боевого хода? – спохватился Федор. Эх, надо было ранее разведать, да как? Всегда так: вершишь государево дело вроде по уму, а выходит – как бог положит!
– С боевого хода как не быть? Заведено, чтоб с боевого хода были! С затына – бес его знает… Были вроде и с затына, да заложить могли! – неуверенно отозвались несколько голосов.
– Так, слезай! – исполнился решимости Федор и легко соскочил с седла (усердный Силка тотчас перехватил поводья сотникова коня). – Первый, другой, третий десяток – со мной, на стену, ошуюю башни! Воейков Ванька, ты с остальными давай с затына, а не найдешь входа – лезь на стену и входи с другой стороны! Всюду волю и дело государево в голос кричите, чтобы за воровских людей вас не приняли… Братья, твердо помни: стражу первым боем не бить, а сами драться станут – унимать, не калеча! И, не приведи господь, палить кто станет – ручонки повыдергаю!! Уразумели?
– Слушаем, сотник… Да, Федя… Уразумели, чего не уразуметь? – угрюмо отозвались молодцы.
Холопы-коноводы расторопно принимали коней, по двое поводьев на руку, каждый – по четыре коня. Остальные споро растеклись двумя потоками – за сотником и за первым полусотником. Посадские и торговые люди, монахи, бабы да ребятишки, обретавшиеся подле стены по делам или по безделью, приставали с расспросами: «Что за воинские люди, да откуда, да по какому делу, да зачем от ворот в колокол трещали?» Федор шагал, не отвечая, молча раздвигая толпу решительным жестом. Следом с угрожающим сопением спешили остальные, стискивая в крепких ладонях рукояти плетей или сабель, а знаменщик Прошка нес значок со святым Маврикием наперевес, словно копье-ратовище.
– Бревно вон валяется, подберите! – деловито распорядился Федор. – На случай, коли двери выносить придется…
На стену вела темная и провонявшая мочой лестница, которую снаружи никто не стерег, и они стремительно одолели подъем размашистыми прыжками через две ступени. Федор вслепую вытащил вторую царскую грамоту, ко всем государевым людям писанную, и выставил ее перед собою, словно боевой щит. Какие-то мутные бородачи с рогатинами, по виду – караульные коломенские затынщики либо воротники[71], шарахнулись по боевому ходу – то ли от грамоты, то ли от угрожающего вида оружных людей. Но у входа в башню, плотно загораживая его стеной тел и железа, столпились московские стрельцы. Немного, дюжины полторы или около того, но на тесном боевом ходе стены, где едва могли встать плечом к плечу три-четыре человека, этого было достаточно, чтобы прочно запереть проход. Чувствовалось, что караул сбежался на защиту впопыхах, иные были без кафтанов, в одних рубахах, иные – простоволосы, но у всех тускло посверкивали в руках бердыши и сабли, а передние держали перед собой длинные пищали, изготовясь к стрельбе. Федор понял, что только вид царевой грамоты удержал пальцы на курках и пули в стволах. Стрельцы напряженно и недобро ждали, выжидающе поглядывая на своего старшего – совсем молодого смазливого сотника с подстриженной на манер придворных стольников бородкой, в щегольски заломленной на ухо шапке с собольей оторочкой и мягких сафьяновых сапожках.
– Стой, кто ты ни есть, и назовись, кто таков! – звонко и задиристо, словно вызывая охочих на кулачки в Замоскворечье в ярмарочный день, крикнул молодой стрелецкий начальник. Федор жестом остановил своих людей, но сам продолжал неспешно и уверенно идти вперед. Подойдя к стрельцам на несколько шагов, он властно и будто бы лениво сунул грамоту прямо под нос их старшему:
– Грамоте учен? Читай!
Парень сунулся было взять грамотку, но Федор не дал ее, внушительно указав на большую державную печать, и стрелецкий сотник сам отдернул руку, словно опасаясь, как бы этот великий и страшный символ государства не ожег его огнем. Сосредоточенно шевеля губами, он начал читать, и выражение озорной дерзости на его лице тотчас сменилось почтительным страхом:
– Самим царем-батюшкой нашим писано, ко всем государевым людям, – пробормотал он, и пищали стрельцов заколебались и начали опускаться, а кое-кто из бородатых вояк даже снял шапку и закрестился, как в храме. Государевым дворянам не надо было давать иного знака, и они тотчас прянули вперед и столпились слева, справа от своего сотника, толпой нависли за его спиной. Стрельцы всполошились, да поздно: дворяне были уже слишком близко, чтобы стрелять, оставалось только схватываться врукопашную или пятиться в башню. Однако оба начальных человека продолжали стоять на месте, испытующе меряясь взглядами.
– Видал, что тебе государем велено? – наставительным тоном проговорил Федор. – Ни в чем препоны не чинить, наипаче допомогать! А ну, веди маня в башню, малый…
Он решительно шагнул вперед, но стрелецкий сотник вдруг точно проснулся и заступил ему дорогу, драчливо выставив вперед ногу:
– Постой, постой! Пусть мне это перво-наперво голова мой, полковник мой Дмитрий Ананьич Бердышев прикажет! К нему и ступай. Без его приказа не могу тебя внутрь допускать… Никак не могу! Эй, стрельцы…
Но дворяне уже надвинулись на караульных вплотную, угрожающе дышали им в лицо, теснили грудью. Дальше была только драка, и все ждали первого удара. Стрелецкий сотник вдруг не совсем решительно, но твердо опустил руку на рукоять сабли, потянул ее из ножен. Федор уловил это движение и жестко, словно клещами, сжал запястье юноши своими крепкими пальцами. А во вторую его руку неожиданно вложил листок царской грамоты: держащая столь высокий предмет длань не осмелится подняться!
– Сотник, стрельцы, вы кому присягу давали, крест на верной службе целовали?! – громко спросил Рожнов. – Государю помазанному нашему Михаилу Феодоровичу! Ваш полковник ему слуга… Именем царевым, слушай: расступись!!
И шепотком, почти приятельски, добавил прямо в розовое, будто девичье, ухо молодого стрелецкого начальника:
– Брат сотник, людей своих пожалей! Видишь же, драка будет, и мы побьем – и сила наша, и правда!
– Но господин полковник же меня после…
– Так то после, а мы – сейчас! И не страшись, я тебя перед страшным полковником заступлю, как верного слугу государева. Веди, что ли, в башню, показывай! Людей своих с караула сними, пущай отдыхать идут! Мы ныне стражу за Маринкой держать станем.
Стрельцы уступили как-то разом, опустили оружие и посторонились, прижимаясь спинами к зубцам стены. Шагая вслед за сотником, Федор вступил в душное чрево главной коломенской башни, дальше, оглашая низкие своды топотом сапог, лязгом железа и приглушенным эхом голосов, повалили его молодцы.
– Слушай, брат сотник, а чего ты от нас за дверями не затворился? – походя изумился Федор, увидав тяжелую кованую дверь, закрывавшую вход в башню, открытой.
– Так петли-то от дождей поржавели, приросли, чисто каменные! – пожаловался тот. – Поди закрой…
– Так-то у нас всегда: то здесь недосмотр, то там недогляд! – проворчал Федор, а сам в душе возблагодарил Бога за эти весьма кстати случившиеся дожди и ржавчину. – Братцы, двери сии – поправить, а не подадутся, так завалить их всяким хламом, немедля как стрельцы выйдут. И Ваньке Воейкову с его воинством вход отворите, живо!

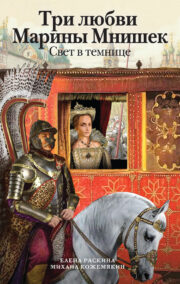
"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы
Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.