– У вашего государя, бесспорно, благородные и высокие цели! – скептически заметил польский король. – Но есть и иная цель у Речи Посполитой и Московии – Крым! Не из этой ли земли, по приказу татарского хана, совершаются набеги на славянские государства?
– Дерзну ли я, холоп государев, обсуждать слова Его царского Величества? – изумленно переспросил Власьев. – Я привез царскую грамоту и дары государя Димитрия Иоанновича. Более я ничего не знаю.
– Крым находится под рукой татарского хана, а хан – вассал Оттоманской Порты, – заметил литовский канцлер Лев Сапега. – Стало быть, в этом вопросе наши намерения сходятся…
– Покажите дары, пан посланник… – довольно сказал король.
– Его царское Величество приказал внести дары после совершения священного обряда обручения, на коем я буду представлять его персону.
– Извольте, пан посланник, невеста готова…
Сигизмунд подвел Марину к Власьеву и от имени отца невесты сказал, что пан Ежи Мнишек благословляет дочь на брак и царство. Пан Ежи, стоявший рядом, важно кивнул. Мнишека просто распирало от гордыни – он, казалось, стал вдвое толще и осанистее, а усы закрутил так, что они вились, как локоны у панночки! Невеста едва заметно усмехнулась – ее забавлял непомерный гонор отца. Как бы беды не вышло – ведь говорят же, что Господь низводит с престолов гордых и возвышает смиренных…
Канцлер Сапега произнес длинную, цветистую речь, закрученную и заверченную не менее причудливо, чем усы у пана Ежи. Вслед за Сапегой говорили пан Ленчицкий, папский нунций Клавдий Рангони и кардинал, епископ Краковский Бернард Мацеевский, двоюродный брат пана Ежи Мнишека. Посол-московит заметно заскучал: он недостаточно хорошо понимал по-польски, чтобы следить за искусными завитками шляхетных речей, за всеми этими пышными выражениями и ювелирно вкрапленными в речь латинскими цитатами. Но Власьеву велели слушать – и он слушал, только зевал то и дело, поминутно прикрывая рот длинным рукавом.
Но Марина знала – если ее соотечественники начали говорить, то их не остановишь. Они на все лады восхваляли достоинства, воспитание и знатный род панны Мнишковой, вольной шляхтянки вольного государства, честность царя Димитра в исполнении данного им ясновельможной панне обета, счастье Московии иметь наконец законного венценосца вместо похитителя престола, злодея Годунова, и, наконец, дружбу Его Величества Сигизмунда и русского государя…
– А русский государь, – внушительно повторил кардинал, епископ Краковский, – не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и Королевству Польскому.
Последние слова заставили московита скривиться так, словно он надкусил кислое яблоко. «Ишь ты, наш православный надежа-государь, а подлым ляхам всем обязан! И ляшку некрещеную в жены берет…» – недовольно подумал Власьев, но вслух ничего не сказал – уж очень боялся гнева государева.
А между тем нужно было идти с невестой государя к алтарю и меняться перстнями. Никогда, даже в самом страшном, черном сне Власьев не мог себе представить, что будет стоять посреди поганых латинян-язычников, рядом с царской невестой – и не из благородного боярского роду, как полагалось московским царицам, а из ляшской богопротивной семьи! В Москве новый царь, надежа Димитрий Иоаннович, долго растолковывал ему, что такое обручение по доверенности, но Власьев никак не мог взять в толк, кто здесь и кому что доверяет.
Разве ж это можно, стоять рядом с государевой невестой заместо царя-батюшки? И еще к ручке Ее Высочества прикасаться, кольцо ей на пальчик надевать? Ведомое ли дело – священной царской особы государеву холопу коснуться? Государь говорил, что в заморских странах такое делается, когда жених с невестой в разных местах проживают, но то у них, у еретиков поганых, у латинов с лютерами, а не у нас, православных христиан! Тьфу, пропасть!
Между тем латиняне затянули свои дьявольские песнопения и преклонили колени. Встала на колени перед кардиналом и панна невеста. Власьев торчал посреди залы, как перст. Бухаться на колени ради поганых латинских молитв ему, православному послу, было никак нельзя. Впрочем, в зале была еще одна особа, не опустившаяся на колени, и это несколько успокоило Власьева. Впрочем, особа эта, шведская королевна Анна, была поганой люторкой, а лютеры, говорят, еще хуже, чем латиняне! Совсем поганые – святых изображений не почитают, а в церквах у них пусто и голо – ни икон, ни фресок, словно кто языком всю красоту слизал!
Ляхи пели «Veni, Creator!», а некоторые даже плакали от умиления. «Тьфу, пропасть, вот земля поганая, Богом проклятая!» – выругался про себя Власьев.
Посол вынул из ящика царский перстень с большим алмазом и протянул его латинянскому попу – кардиналу. Тот не захотел перстень взять и жестом показал глупому московиту, что нужно надеть кольцо на палец невесте. Коленопреклоненная панна Марианна подняла голову и вопросительно взглянула на московита. А тот все тыкал и тыкал кольцо в руки кардиналу, как будто русский государь, особу которого представлял Власьев, венчался с кардиналом, а не с польской невестой.
По рядам коленопреклоненных шляхтичей пробежал смех: даже торжественность обстановки не могла заставить их сохранять серьезный вид. К тому же царский порученец держался как-то поодаль, словно боялся подойти к ясновельможной панне. Непонятно было, кто и с кем обручается. Марина отчаянно покраснела и вопросительно обернулась к отцу, но пан Ежи молчал, уставив глаза в пол, как будто ничего забавного и странного не происходило. Тогда Марина сама взяла кольцо из рук московита и надела его себе на палец. Пан Ежи испустил вздох облегчения. Его Величество Сигизмунд с высоты своего трона как-то криво улыбнулся сыну Владиславу и королевне Анне. Мол, что поделаешь, московиты!
А между тем кардинал спросил у царского посланца, не обручался ли Димитрий с другою невестою. Власьев угрюмо молчал. Шляхтичи посмеивались в усы. Марина то краснела, то бледнела.
– Переведите же ему вопрос, и поскорее! – вполголоса произнес пан Ежи. Прибежал секретарь Сигизмунда, сносно говоривший по-русски, перевел Власьеву слова кардинала.
– А мне как знать, венчался наш государь с другою невестою аль нет? – громогласно вопросил Власьев. – У меня того нет в наказе…
Смущенный секретарь перевел всем присутствующим слова русского посла. Поляки громко захохотали. Многие встали с колен. Пан Ежи схватился было за саблю. Торжественная церемония превращалась в фарс.
– Э, постой, постой, ты, слышь! – Власьев бесцеремонно дернул кардинала за рукав рясы. – А Ксюшка Годунова? Мне доподлинно неведомо, обручался с ней государь, с Ксюшкой, аль нет, только живет он с ней, как с венчанной женой!
Пан Ежи побагровел так, будто с ним вот-вот приключится удар, а после схватился за саблю.
– Зарублю, московский пес, черный вестник! – зашипел он.
Посол Власьев перекрестился и, загрезив о великой участи мученика, подумал было, не плюнуть ли еще для верности на пол в латинском капище. Но после решил, что это уже будет слишком вопиющее нарушение государева приказа вести себя в Кракове почтительно. И ограничился уже сказанным – захотят зарубить, и так зарубят. Но пан Ежи, как видно, передумал разрушать церемонию и сабли не вынул. Зато обратил свой гнев в слова.
– Какая Ксюшка? – возмутился пан Ежи. – Шляхетский гонор не может выносить такого бесчестия! Проклятый московит бесчестит мою дочь своим беспутством! И если бы пана посла не защищал статус, я бы заставил пожалеть этого московита о том, что он стал послом!
– Не обручалась! – отчетливо произнес за Власьева кардинал и этим спас положение.
Марина гневно взглянула на посла, но тот не моргнув глазом перенес обиду ляшки. «Глаза бы мои на нее не глядели, на польку некрещеную!» – думал Власьев.
Великолепный стол в доме воеводы Сандомирского, за которым Марина сидела подле короля, несколько сгладил всеобщую неловкость. Люди из свиты Власьева внесли дары от оставшегося в Москве жениха и царицы-матери, инокини Марфы: богатый образ Святой Троицы, перо из рубинов, гиацинтовую чашу, золотой корабль, осыпанный драгоценными камнями, золотого быка, пеликана и павлина, роскошные часы с флейтами и трубами, три пуда жемчуга, 640 редких соболей, кипы бархата, парчи, штофа, атласа… Марина смеялась как ребенок, разглядывая эти дары любви, а пан Ежи примеривался к соболям и жемчугам. Король Сигизмунд потребовал свою долю – и Мнишеки не посмели ему отказать. Станислав Мнишек, староста Саноцкий, брат панны Марины, получил в подарок от русского царя саблю и меч, оправленные в золото, а еще – золотой кубок и нож.
Марина пригласила было за стол Власьева, но тот стал отказываться, не хотел садиться рядом с царской невестой и польским королем.
– У нас на Руси, – объяснял Власьев непонятливым ляхам, – слуги государевы с царскими особами за один стол не садятся, а смиренно сидят поодаль. А ежели государь или государыня захотят слугу пожаловать, то посылают ему со своего стола блюдо какое али питье…
– Пришлите пану послу вина, Ваше Величество! И телятины… Или дичи… – предложила Марина.
– Винище лукавое на Святой Руси пить великим грехом почитается! – недовольно ответил посол, осушив тем не менее кубок с запретным напитком. – А телятину, как и всякое прочее мясо-юнятину, тем паче есть нельзя. Юнятина – сиречь мясо агнца, а в агнце закланном мы почитаем Христа. К тому ж у вас, ляхов, на пирах скоморохи играют, а у нас пищу положено вкушать в благоговейном молчании, дабы ангелы вкушающим предстояли…
– Что ж нам – отпустить музыкантов по домам? – с усмешкой переспросил Сигизмунд. – Сие никак нельзя сделать, ибо наши дамы заскучают.
– А уж бабам сидеть за одним столом с мужиками – так то и вовсе срам! А что до скоморохов, то мне все едино – хоть по домам их отпускать, а то и вовсе повесить! У нас на Москве чай с петлей не церемонятся! – сказал Власьев и для наглядности провел пальцем по шее, а после выкатил глаза и высунул язык, изображая удавленника.

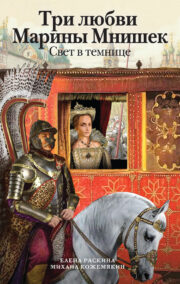
"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы
Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.