Когда вернулся Федька Рожнов со товарищи с разъезда в стан, те, кто не изменил, уже кровавыми кучами валялись, порубленные да ободранные до подштанников – только мертвые рты нараспашку, вороны с галками над ними дрались. Войско же все в рядах стояло, попы меж рядов ходили, давали целовать крест «царю Дмитрию Ивановичу». Войско целовало и здравицы Самозванцу так орало, что стаи черных птиц с мертвецов снимались.
Тут-то подступил к Федьке сотенный голова его Лисовин, а подле поп с крестом.
– Целуй, Федя, крест истинному государю московскому Димитрию Ивановичу, по Божьей милости чудесно спасенному да возвращенному Руси, – молвил сотник, а у самого рожа хитрая, глумливая.
Федька только посмотрел на присягу сию изменную, на крови, да и плюнул.
– Видал я того, кому вы сейчас крест целуете, так же близко, как вас! – сказал он в сердцах. – Государь из него, как из меня или вот из Васьки Валуева. Не стану я ему присягать, хоть убейте. А вы, братья-товарищи, давайте, служите самозваному царю, коли вам кто ни поп, тот батька!
В сердцах сорвал Федька саблю с бедра, швырнул ее под ноги сотенному голове Лисовину и зашагал прочь, сам не зная куда. Когда, пыхтя, догонять его стали, подумал: убивать будут. Не оборотился Федька – пусть же в спину бьют, чести у них вовсе нету.
Но обогнал его дружок закадычный Васька Валуев, здоровяк из его сотни, а с ним и смазливый Ванька Воейков, и братаны Мыльниковы, и еще изрядная ватага боевых братьев – все сплошь молодежь, на войне сей возмужавшая. И знаменщик с ними со значком из соседней сотни, Прошка Полухвостов, смуглый, как татарин, а набожный, будто монах. На значке том святой Маврикий[54], Воин, искусно вышит, белоконный, в алом плаще, ликом же черен. Васька Валуев саблю Федьке обратно подал и так говорит:
– Негоже тебе, сотнику, саблей-то разбрасываться!
– Какой же я сотник, Вася? – изумился Федька.
– Мы тебя сотником над собою хотим! – отвечал Валуев, и все согласно загалдели. – Мы Гришке-самозванцу крест целовать не стали, мы государевы присяжные дворяне! С ляхами да с изменой хотим далее биться, вот у нас и знамя имеется… А Лисовина, червя лукавого, я по роже смазал, он и покатился!
Кулак у Васьки огромный был, будто пудовая гиря, коими купцы тюки с солью взвешивают! Возможно, и не встал Лисовин.
Уехали они из мятежного стана, честного пути себе искать. Так и начала быть их сотня.
А на Москве уже вскоре после того новый царь уселся – Дмитрий Иванович, с вражьими ляхами да с изменой боярской. И царицы своей из польских земель дожидаться стал.
Маринкина башня, Коломна, 1614 год
Теперь, в башне Коломенского кремля, несчастная, забытая всеми пленница снова и снова, как бусины четок, перебирала в памяти мгновения прожитой жизни. Ее первая любовь – благородная, красивая, как в рыцарском романе… И такая же наивная и детская! Как славно все начиналось и как страшно закончилось! Начиналось – в Самборском замке, среди балов и приемов, коротких встреч в саду и долгих разговоров в библиотеке, среди латинских, французских и польских книг… Кажется, тогда она еще учила Димитра латыни, которую он совсем не знал, а он ее – наречию московитов… И оба они постигали науку любви и власти.
Именно Марина рассказала Димитрию о французском короле Генрихе IV, прозванном Добрым, протестанте, убитом католиком Равальяком. Для панны Марианны этот король был врагом Матери Католической церкви, но (увы, приходилось это признать!) – человеком многих достоинств и, главное, настоящим рыцарем! Он мечом проложил себе дорогу к престолу и после долго и славно царствовал… Ах, если бы сей великий король, славный рыцарь, галантный кавалер и любимец дам, смог бы сердцем, добросердечно, обратиться к Матери Католической церкви! Тогда бы его не постигла злая участь… Генрих принял католичество лишь для виду, но в душе всегда оставался еретиком-реформистом, за что и был убит.
Димитрий внимательно слушал прекрасную панну, но понял эту историю совсем по-другому. Он нашел в жизни Доброго короля нечто близкое собственному пути. Православный царевич вынужден был тайно принять католическую мессу. Но если Париж стоит мессы, как говаривал Генрих IV, то Москва – едва ли в меньшей цене! Он займет отцовский престол, а тогда можно будет и забыть о тайной смене веры. Он снова станет православным… Главное – заслужить любовь своих подданных, как это удалось Доброму королю! Правда, в конце пути Генрих был убит, но, видит бог, сколько он успел сделать до этого! Добрый король примирил католиков и протестантов и прекратил бессмысленные религиозные войны. А Димитрий сможет примирить поляков-католиков и украинцев-униатов с московскими «схизматиками»! Он примирит Москву и Литву… Не в этом ли смысл и цель его земного пути? Значит, он не предатель, а миротворец?
Какие красивые мечты! На деле Димитрий не угодил ни русским, ни полякам и был убит… Ибо нельзя служить двум господам одновременно – даже с благими целями.
В Самборе Марине казалось, что власть и любовь могут быть нежно переплетены, как руки влюбленных… Бог мой, как она тогда заблуждалась! Власть сплетена с людской злобой и завистью, постоянным чувством опасности, с боязнью ее потерять и с кровью – своей или чужой… В Самборе она грезила наяву, и как страшно оборвались эти грезы!
Их с Димитрием любовь закончилась 17 мая 1606 года, в Москве, когда его окровавленное, изуродованное тело, словно падаль, протащили по московским улицам. По улицам, пропитанным кровью ее, Марины, соотечественников! Димитр предчувствовал такой исход – втайне, в глубине души, он не хотел возвращаться на Москву, длил и длил мгновения счастливого самборского забытья… А Марина, пленница своего польского гонора и честолюбия Мнишков, толкала его к славе… и к гибели. А может, гибель – это оборотная сторона славы, ее кровавая изнанка?!
Вот только венчанная на царство владычица Московии Мария Юрьевна не разделила участь Димитра, не умерла вместе с ним, хоть и обещала перед алтарем всегда и всюду быть вместе – и в счастье, и в несчастии. Димитр погиб, а она, чтобы отомстить, вынуждена была признать мужа в его тени, двойнике, секретаре царя, дьяке Богдане Сутупове. Она назвала эту тень чудом спасшимся царем Димитрием Иоанновичем. А потом встретила в лагере Самозванца свою вторую любовь – казацкого атамана Яна Заруцкого. Ян тоже был Рыцарем, но в своем роде…
Тяжело, с усилием заскрипела тяжелая железная дверь. Марина вскочила со своей убогой постели, расправила плечи, гордо вскинула голову. Что-то в ней еще оставалось от былой девы-воительницы и порой вспыхивало, как свеча! Вошел тот самый стрелец, который пожалел ее, когда отнимали Янека. Сколько таких вот молодцов охраняет ее, похороненную заживо?! Неужели на Москве ее все еще боятся? Тогда они боятся тени.
Стрелец посмотрел на Марину как-то странно – то ли сочувственно, то ли неловко. Стыдно было ему, должно быть, сторожить бедную хворую женщину, у которой отняли сына… Сказал:
– Дьяк пришел. От воеводы нашего. На допрос тебя кличет.
– О чем ему со мной говорить? – равнодушно спросила Марина. – Что я еще могу рассказать?
– Воеводе виднее! – ответил стрелец. – Он, человек царский, должон знать.
– Я готова…
Стрелец хотел было открыть перед Мариной дверь, но потом вдруг остановился: снял с головы шапку, мял ее в руках, теребил, словно хотел сказать что-то, а не решался.
– Ты хочешь говорить со мной, воин? – догадалась Марина.
Стрелец подошел к ней совсем близко. Марина испуганно отскочила назад, вжалась в стену. «Он послан меня убить!» – пронеслось у нее в голове, и тотчас она удивилась, что ей еще страшно умирать.
– Не бойся… – быстро, торопливо прошептал стрелец. – Не хочу я твоей смерти. Повиниться хочу…
– В чем, воин?
– Мужа я твоего видал… Первого…
– Когда?
– Когда он из кремлевского окошка во двор выпрыгнул. От бояр спасался. Расшибся сильно. Мы, стрельцы, его спасти поначалу хотели.
– Почему же не спасли?
– Сумлевались мы. Царь он аль самозванец.
– Тогда в чем же ты винишься? Раз думал, что Димитр – самозванец?
– Не знали мы наверняка. Ляхов он больно любил – стало быть, самозванец. Но и народу русскому потрафить хотел, разрешил крестьянам в голодный год от бояр да дворян уходить. Стало быть, наша кровь.
– Почему же вы не спасли его? – снова настойчиво спросила Марина.
– Да потому, что бояре наших жен и детей убить грозились! Послали человека своего сказать нам – мол, отправим людей в стрелецкую слободу, ежели самозванца защищать будете. А там ваших женок и детишек – всех порешат. За то и повиниться хочу. Испужались мы за баб да детишек… Не стали доподлинно выяснять, кто он – государь наш законный али самозванец.
– Настоящий он был! Настоящий! Государь ваш, на царство венчанный…
– Что ж так ляхов да Литву почитал? Больше наших, московских?
– Помогли мы ему, воин. Благодарен он был. А если повиниться хочешь, так мне бежать помоги! Мальчику моему несчастному ты не помог, так хоть меня спаси!
– Не могу я тебе помочь. Я – человек служивый. Не моя воля. Царская. Новый царь у нас, молодой да добрый. Михаил Федорович из роду Романовых. Сама знаешь.
– Только скажи, зачем меня дьяк видеть хочет?
– Не знаю, он нам не докладывает. Ты только прости меня… Отпусти грех…
– Не я грехи отпускаю. Господь простит.
– А ты зла на меня не держи, Господь и простит.
– Не держу я на тебя зла, воин. Веди меня, куда приказывают.
Стрелец распахнул перед Мариной дверь, пропустил узницу вперед, сам пошел позади.
– Куда идти?
– Спускайся, горемычная… Вон, ступени каменные, али не видишь?
Стали спускаться. «Вот бы расшибиться об эти ступени да умереть!» – думала Марина. Ей отчаянно, до слез и душевной боли, захотелось смерти. Зачем она не умерла тогда, 17 мая, вместе с Димитром? Это было бы так просто! А сейчас из башни не выпрыгнешь – стерегут! А оконце такое крохотное, что только птицей из него и вылетишь! Жаль, что нельзя улететь! «Смешные московиты – они верят, что я чернокнижница и могу превращаться в птицу!»

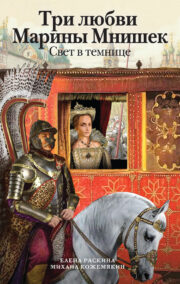
"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы
Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.