Недавно встретила одного из своих первых мужчин. Мы столкнулись на улице и зашли в кафе поговорить. В «Шоколаднице», если я не ошибаюсь. Там крошечные столики: моя чашка, мои перчатки, моя сумка, мои мобильные телефоны, мои руки, его руки – и все, места больше нет. И вот мы сидим, спокойно и доброжелательно беседуем, и я вдруг думаю: «И чего я его бросила, дура?» Ну постарел, конечно, зато получает сколько-то тысяч баксов в месяц, стабильно, семью вот хочет, а я чего? Нам ведь есть о чем поговорить, это же важно, когда коэффициент интеллекта примерно одинаковый. Не так одиноко, в конце концов. Если уж я все равно никого не люблю, тогда что воля, что неволя…
И, думая все это, я опускаю глаза и вижу, что на маленьком мраморном столике наши руки лежат совсем рядом. И чувствую, что, если он сейчас тронет мои пальцы, меня вырвет. Весь рестретто так вот прямо и выплеснется.
Собственно, поэтому и бросила. Просто забыла через годы.
А ведь мы даже пожили полгода, и я тогда его очень сильно, как умела, любила. Я все пытаюсь вспомнить – а что было-то? Как началось? А вспоминается только красная гипюровая рубашка с длинными рукавами.
Я жила тогда в подмосковном промышленном городке. Это было за пару дней до выпускных экзаменов, тетушка решила меня «познакомить с нормальным парнем с работы». Ну да, я из хорошей семьи, он из хорошей семьи, чего время терять. Ему не с кем ездить в театр, а меня нельзя выпускать из дому одну – сиськи, шестнадцать лет, невинные глаза, девственность. И вот она везет меня на Курский вокзал, под часы, знакомиться. Я одета в самое лучшее, взятое у старшей сестры, – в черную нейлоновую кофточку, вышитую серебряной нитью по вороту, и юбку-солнце из тонкой яблочно-зеленой шерсти. На дворе плюс тридцать, асфальт проминается под тонкими шпильками. Всю ночь спала на бигудях (мы тогда склоняли это слово, уж извините), в животе холод и голод, а талия стянута широким поясом до пятидесяти шести.
Мама всегда говорила, что я некрасива, да и у меня самой были глаза, чтобы сравнить. Сестра – высокая, зеленоглазая, с золотыми вьющимися кудрями. У мамы прямой греческий нос, губы бантиком, узкое лицо с безупречной кожей. А у меня что? Волосы прямые и тонкие, носик мягкий, росту всего ничего, зубастая и сутулая. В папочку, говорила жалостливо мама.
И вот меня, такую, везут знакомиться с женихом (на нашем условном языке все мальчики были женихи, а все девочки – невесты). Мы доезжаем на электричке до Москвы, входим в здание Курского вокзала, огромное, серое, прохладное, и я сначала смотрю на часы – не опоздали, одиннадцати еще нет, а потом вниз, и тетя показывает мне его. Волосы светлые, глаза голубые, в профиль немного похож на овцу (но я быстро перестану это замечать). И главное, конечно, красная гипюровая рубашка с длинными рукавами, застегнутая на все пуговицы.
Он говорит, не глядя в глаза, почти не разжимая губ, он очень взрослый, умный, опытный, ему гораздо больше двадцати…
Мы целый день гуляем, потея каждый в своей синтетике, катаемся на теплоходе, вечером идем смотреть «Женитьбу» Эфроса.
Ну и все, на экзамены я пришла уже влюбленной.
За руку он взял меня довольно быстро, на втором свидании, а вот поцеловались мы, наверное, через месяц. У него, видите ли, было разбито сердце. Я очень хорошо умела слушать. Поэтому о его Великой Любви я знала все – от формы груди до пищевых предпочтений (консервированный болгарский компот).
Мы ходили в театр (сорок спектаклей за год), гуляли, разговаривали. Отношения развивались стремительно, и через три месяца я лишилась невинности. Впрочем, это могло произойти и позже, если бы не блестящий ход моей мамы. В конце августа (в тот вечер мы вернулись с «Дон Жуана») она сказала:
– Сегодня мы все едем ночевать в деревню к бабушке. Ты, пожалуйста, останься у нас, чтобы девочке не было страшно. Я постелю тебе на нашей кровати.
Страшно не было. Было смешно, потому что я не ожидала этих нелепых возвратно-поступательных движений. В кино сначала целовались, потом перекатывались, а потом затемнение, порнухи мне никто не показывал. Удивительные метаморфозы члена меня вообще поразили. Я впервые держала в руках нечто живое, способное существенно изменять размер.
Весной он уехал в отпуск на неделю, и я поняла, что не могу без него жить. Правда, он говорил, что любит Ту Девушку, но мне было все равно. Когда он вернулся, мы стали жить вместе, у его родителей. Почему-то лучше всего запомнился визит его друга. Меня всегда интересовала красота, составленная из маленьких ущербинок – едва заметное нарушение пропорций, узкие челюсти, слегка искривленные кости. Все это создает общее ощущение хрупкости и тревоги – миллиметром больше или меньше, и перед тобой сидел бы инопланетянин или урод. Я видела подобное, с теми самыми лишними (или недостающими) миллиметрами, у Володи Мармеладова.
Ну ладно, фамилия другая, но тоже какая-то галантерейная и неуместная, буквально на пару букв не соответствующая его среде.
А был он сельским учителем физкультуры. Ой, ну эти крепыши, вы знаете – каждое утро сто раз отжаться, пятьдесят подтянуться, облиться холодной водой. При этом он был интеллигентным учителем физкультуры, вместо пробежек были походы по родным местам, босоногие прогулки по снегу во славу Порфирия Иванова и шахматы по переписке. Потому что в селе ему, бедному, не с кем было духовно развиваться. Жена его не понимала. Другие учителя пили, и агроном, наверное, тоже пил, если вообще существовал. А Володя хотел говорить об эзотерике.
Да, и вот ко всему – к шахматам, снегу, тонким мирам и пешим походам – он еще ростом был метр пятьдесят. Я не преуменьшаю, ниже меня, с хрупкими и неразвитыми изначально костями, на которых он нарастил себе коротенькие узловатые мышцы и вагон претензий к миру. В том смысле, что вся его маленькая и, как это принято называть, ладная фигурка выражала собою желание немедленно изменить, исправить и улучшить все окружающее. Он был очень, очень позитивен.
Возникает вопрос: как я могла оказаться в обществе этого человека? Только появившись на горизонте, он вызвал у меня острый приступ раздражения. Была бы моя воля, я бы к нему близко не подошла. Но воля была не моя. Володя играл с моим мужчиной в одном турнире по переписке, и, естественно, как два интеллигентных человека, они вступили в нешахматную дружбу. Обменивались откровениями, что в семье и на работе никто их не понимает, что кругом столько интересного и загадочного, а люди все больше смотрят под ноги, и что природа Тунгусского метеорита должна волновать каждого честного человека (девяностые годы, господа).
К сожалению, одними письмами дело не ограничилось, и однажды Володя появился у нас на пороге с большой спортивной сумкой. Приехал в Москву прикупить чего-нибудь духовного, а жить решил у нас, в пятидесяти километрах от столицы.
Итак, Володя приехал, и Володя был предубежден. Против меня, потому что я не понимала его лучшего друга. Против Москвы, потому что грязный воздух. Против телевидения. Против системы. Против чужого образа жизни. Против материального мира. Но это мелочи, конечно, по сравнению с тем, что все-таки против меня.
Он сел в кресло и сказал:
– Ну?!
Честно, я не знаю, что на такое отвечать. Поэтому промолчала.
– Нет, давай поговорим о жизни! – Эти люди всегда восклицают. – Вот ты была в Крыму – ну и что хорошего?! Вот у нас в Костромской области…
И так далее.
Потом он решил позвонить, но у нас тогда был отключен телефон из-за ремонта на линии. И я ему говорю – телефон сломался. Что тут началось… Володя пришел в восторг:
– Ох уж мне эти городские! Я сейчас все починю! Где розетка?
– Розетка вот, чинить ничего не надо, завтра мастер подключит.
– Зачем нам мастер? Я сам! Немедленно!
Он немедленно отодвинул стиральную машину (она мешала!), постелил газету и разобрал розетку – в течение четырех секунд. И наконец на минутку перестал мельтешить.
– Странно, все в порядке… Сейчас я разберу телефон!
– Говорю же – не надо, это на линии ремонт.
– А почему ты мне сразу не сказала?!
Естественно, мы друг друга невзлюбили.
За обедом мы говорили о «Розе Мира». Володя ее не читал, но очень уважал и все время пытался обсудить с моим мужчиной. Но тот знал предмет только в моем адаптированном пересказе – такого рода литературу в нашей паре могла осилить одна я. На Володю было жалко смотреть. Во-первых, я по всем признакам просто не должна была уметь читать. А во-вторых, на любые попытки поговорить о книге я дружелюбно советовала ему для начала ее прочитать.
Володя уехал от нас в сильном раздражении. На прощание он сказал мне:
– Да, тебе недоступен тонкий мир, – и ушел с моей «Розой Мира» под мышкой.
Впрочем, сейчас я прихожу к выводу, что дело было не только в неразвитых костях черепа. Получается, со всеми друзьями бывшего сожителя я не слишком ладила.
Все они считали, что я его не понимаю. Что я его не заслуживаю. Что я его использую. Что я его недостаточно люблю. И вообще.
А я страшно огорчалась по первости и очень старалась им понравиться, но зря.
И только в самом конце нашей совместной жизни до меня дошла одна вещь – дело было в этом туманном «и вообще». Как-то так получалось, что друзья, чуточку выпив водки, все время пытались ущипнуть меня за мягкие части тела. Я приходила в ужас, жаловалась ему, а он смеялся и говорил: «Ну пьяные, что с них взять?» Он-то считал, что интересоваться моей попой можно только в невменяемом состоянии. Я верила. Но когда один из друзей пришел в его отсутствие, рассказал, как любит моего мужчину, выразил полную осведомленность о нашей интимной жизни, а потом приветливо помахал перед моим носом небольшим, но бодрым членом – вот тут до меня дошло.
А то все «миры тонкие, миры тонкие»…
Через какое-то время я его разлюбила и вернулась к себе домой.
В небе парила перелетная птица,
Я уходила, чтобы возвратиться.

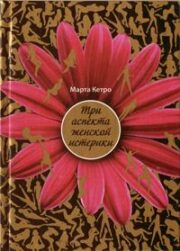
"Три аспекта женской истерики" отзывы
Отзывы читателей о книге "Три аспекта женской истерики". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три аспекта женской истерики" друзьям в соцсетях.