— Хорошо, хорошо, хорошо! — запел он, изображая из себя подводную лодку, но благородно удерживаясь от того, чтобы ее торпедировать.
Убедившись, что зонт полностью защищает ее от солнца, все еще мокрая Мэри растянулась на шезлонге и вытерла лицо. С прически на затылке сочилась вода и стекала по спине, что было очень неприятно. Тогда она вынула шпильки и перекинула волосы через спинку, чтобы они просохли. Ей пришлось признаться, что она чувствует себя прекрасно, как будто соленая вода обладала каким-то целебным свойством. Кожа слегка горела, мускулы расслабились, руки и ноги отяжелели…
…Она была в салоне, который посещала не часто, и парикмахер ритмичными движениями расчесывал ее волосы, раз, два, три — раз, два, три, слегка натягивая кожу каждый раз, когда щетка касалась головы, и приятное ощущение сохранялось все время, пока щетка двигалась по волосам. Улыбаясь от удовольствия, она открыла глаза и обнаружила, что она вовсе не в салоне, а на берегу в шезлонге, и что солнце склонилось так низко за деревьями, что тени целиком закрыли пляж.
Тим стоял сзади и, наклонившись, играл с ее волосами. Ее охватила паника; она вскочила в невыразимом ужасе, схватилась за волосы и яростно принялась искать в кармане своего обрезанного выше колен халатика шпильки. Глаза ее были расширены от страха, а сердце сильно колотилось.
Он стоял, глядя на нее с удивительно беспомощным страдальческим выражением, которое у него бывало, когда он сделал что-то неправильно, но не понимал, что же именно. Он хотел искупить свою вину, он так хотел понять, какой проступок он, сам того не зная, совершил. В такие моменты, подумала она, Тим особенно остро чувствует свою убогость, как собака, которая не знает, за что пнул ее хозяин. Совсем потерянный, он стоял, ломая руки и приоткрыв рот. Жестом раскаяния и жалости она протянула ему руки:
— О, мой дорогой! Мой дорогой, я не хотела этого! Просто я спала, и ты испугал меня! Не смотри на меня так! Я ни за что на свете не обижу тебя! Правда, Тим! Пожалуйста, на смотри на меня так!
Он уклонился от ее рук и отошел подальше, потому что не был уверен, действительно ли она так думает, или просто утешает его.
— Они были такие красивые… — робко объяснил он. — Я просто хотел потрогать их, Мэри.
Пораженная, она уставилась на него. Он сказал «красивые»? Да, сказал. И сказал так, как будто действительно понимал, что это слово отличается от тех, что он обычно употреблял для похвалы, таких как «прелесть», «приятный», «супер» или «здорово». Тим обучался! Он усвоил кое-что из того, что говорила она, и понял правильно.
Она нежно засмеялась, решительно подошла к нему, взяла его за руки и крепко сжала их.
— Благослови тебя Бог, Тим, ты же знаешь: ты мне нравишься больше всех! Не сердись на меня, я не хотела тебя обидеть, правда, не хотела!
Его лицо опять осветила улыбка, боль в глазах исчезла.
— Ты мне тоже нравишься, Мэри, ты мне нравишься больше всех, кроме папы, мамы и моей Дони, — он задумался на мгновение. — Я думаю, что ты мне нравишься больше моей Дони, фактически.
Ну, вот опять! Он сказал «фактически», точно так, как говорила она сама! Конечно, в основном он просто повторял, как попугай, но не совсем. В том, как он употребил это слово, проскользнула какая-то уверенность.
— Пошли, Тим. Пойдем в дом, становится прохладно. Когда вечером начинает дуть бриз с низовий реки, то быстро холодает, даже в разгаре лета. Что ты хочешь на ужин?
После того, как они поужинали и была вымыта и убрана посуда, Мэри посадила Тима в удобное кресло и просмотрела свои пластинки.
— Ты любишь музыку, Тим?
— Иногда, — ответил он осторожно, изгибая шею, чтобы посмотреть на стоящую сзади Мэри.
Что ему понравится? Здесь, в коттедже, была, пожалуй, более подходящая для него музыка, чем в доме в Артармоне, потому что она перевезла сюда все старые пластинки, к которым уже потеряла интерес: «Болеро» Равеля, «Аве Мария», «Ларго» Генделя, марш из «Аиды», «Финляндия» Сибелиуса и тому подобное. Здесь их были десятки. Музыка мелодичная. «Попытаюсь поставить что-нибудь из этого», — думала она.
Он сидел, очарованный и потрясенный, погрузившись целиком в музыку. Мэри уже успела почитать кое-что об умственно отсталых и помнила, что часто такие люди очень любят высокую и сложную музыку.
Сердце ее переполнялось болью за него, пока она следила, как любое изменение в музыке находило отражение на его выразительном лице. Как он был красив, Боже, как красив!
К полуночи ветер, дующий с моря, стал еще холоднее. Он дул порывами и стал таким резким, что Мэри закрыла стеклянные двери. Тим ушел спать около десяти изнуренный впечатлениями и долгим купанием. Она подумала, что ему может стать холодно, порылась в чулане и нашла там пуховое одеяло. Бесшумно двигаясь по голому белому полу с одеялом подмышкой, чтобы случайно оно не зацепилось за что-нибудь и не было бы шума, Мэри подошла к узкой кровати. На столике тускло горела маленькая керосиновая лампа. Он признался ей, довольно нерешительно, что боится темноты и попросил поставить рядом с кроватью какой-нибудь светильник.
Он лежал свернувшись, возможно, потому что замерз, обхватив руками грудь и подтянув к ней колени. Тонкое одеяло соскользнуло, оголив спину, повернутую к открытому окну.
Мэри посмотрела на него сверху. Руки на складках одеяла, рот слегка приоткрыт. Лицо спящего было таким спокойным, светлые ресницы оттеняли худые щеки, золотая масса волос вилась вокруг прекрасной головы. Губы слегка улыбались, а печальная морщинка с левой стороны делала его похожим на Пьеро. Грудь подымалась так незаметно, что сначала она испугалась — уж жив ли он?
Сколько времени она так простояла, неизвестно. Наконец, она вздрогнула, отошла и развернула одеяло. Она не стала пытаться натянуть тонкое покрывало на него, а лишь подоткнула и затем набросила теплое пуховое одеяло ему на плечи. Он вздохнул, шевельнулся устраиваясь поудобнее, но через мгновение опять погрузился в мир сновидений. Она хотела бы знать, какие сны видят умственно отсталые люди: остается ли он в своих ночных путешествиях таким же ограниченным, как во время бодрствования, или случается чудо и освобождает его от всех цепей? Узнать это было невозможно…
После того как Мэри ушла из его комнаты, дом ей показался невыносимым. Тихо открыв стеклянные двери, она пересекла веранду и спустилась по ступенькам на дорожку, которая вела к пляжу. Деревья раскачивались на ветру, на ветке нависающей над тропинкой, сидела маленькая сова, моргая круглыми глазами и издавая свой странный крик. Мэри взглянула на птицу, едва видя ее, и вдруг почувствовала, что наткнулась лицом на легкое и липкое. Она вскрикнула в испуге и тут поняла, что это паутина. Она осторожно ощупала себя, боясь, что хозяин паутины оказался на ней, но нет, ее рука чувствовала только платье и ничего больше.
Берег был усыпан сухими ветками. Мэри начала собирать их, затем сложила посредине пляжа около большого камня и поднесла спичку. Холодный морской ветер по ночам был благословением для восточного берега Австралии, но человеку, который весь день изнывал от зноя, а ночью, промерзал до костей, было трудно. Она, конечно, могла бы вернуться в дом за свитером, но в горящем костре было что-то дружеское, а Мэри так нуждалась в утешении! Когда языки пламени поднялись высоко, она села на камень и протянула к огню руки. Уцепившись хвостом за ветку ближайшего дерева, свесившись вниз головой и лениво покачиваясь, опоссум смотрел на нее умными круглыми глазами. Мордочка у него была миленькая и настороженная: странное существо, казалось, думал он, сидит перед огнем, перед опасностью, а тени все время прыгают вокруг. Затем он зевнул, сорвал плод с ветки и стал громко жевать. Ее нечего бояться. Просто женщина сидит с лицом, застывшим от боли, немолодая, некрасивая.
Уже давно в ее жизни не было места страданию, раздумывала Мэри, подперев подбородок ладонью. Мысленно она вернулась в то время, когда была маленькой девочкой и в доме для сирот засыпала вся в слезах. Как одинока она была тогда, так одинока, что временами желала смерти. Люди говорят, что детский ум не может стремиться к смерти, но Мэри Хортон думала по-другому. У нее не было воспоминаний о родном доме, о любящих руках, о тех, кому она нужна. Чувство одиночества было абсолютным, ибо она не могла стремиться к тому, чего не знала. Она думала, что ее несчастье коренилось в ее непривлекательности. Эта боль появилась, когда обожаемая ею сестра Томас предпочла ей девочку, которая была хорошенькой.
Но если ей по наследству не досталось привлекательности, то в генах ее была закодирована сила. По мере того, как Мэри росла, она развивала в себе самодисциплину, и к четырнадцати годам, покидая дом для сирот, она уже научилась владеть эмоциями и подавлять в себе печаль. После этого радость, удовлетворение ей приносила лишь хорошо выполненная работа и все растущий счет в банке. Эти радости не были такими уж пустыми, но они не смягчали и не грели ее. Нет, жизнь ее пустой не была, было достаточно впечатлений, но любви она была лишена абсолютно.
Никогда не испытав желания стать матерью, или стремления к мужчине, Мэри не могла оценить характер своей любви к Тиму. Она даже по-настоящему не знала, можно ли то, что она чувствовала к нему, назвать любовью. Он просто стал центром ее жизни. Она ни на минуту не забывала о его существовании, он приходил ей на ум тысячи раз в день, и если мысленно она говорила «Тим», то неосознанно улыбалась или чувствовала сердечную боль. Как будто он жил внутри нее, сохранял в то же время свою отдельную сущность.
Когда она прежде одна в полумраке гостиной, слушала чарующие звуки скрипки, она разумом стремилась к чему-то неизвестному, но когда она сидела в полутемной гостиной и смотрела на Тима, ничего искать было не надо, все к чему она могла стремиться, воплощалось в нем. Если она и ожидала от него чего-то, пока не узнала о его умственной недоразвитости, то сейчас ей было достаточно самого факта его существования. Он захватил ее всю; и это единственное слово, которым она могла выразить свое чувство. Все женские устремления она в себе давно и безжалостно подавила и всегда была достаточно осторожна, чтобы избежать любой ситуации, которая могла их спровацировать. Если она находила мужчину привлекательным, она старательно игнорировала его, если ее трогал смех какого-то ребенка, она делала так, чтобы никогда больше его не видеть. Она отказывалась признавать физическую сторону своего существования. «Держись подальше от неприятностей», — говорили ей монахини из сиротского дома, и Мэри Хортон старательно держалась подальше от неприятностей.

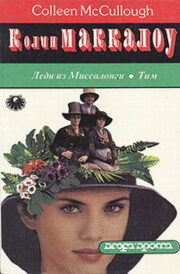
"Тим" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тим". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тим" друзьям в соцсетях.