— Добившись от Бакутина развода, я почувствовала себя человеком. До того была чем-то вроде плевательницы. Да, да, простите за выражение, обыкновенной плевательницей, в которую швыряют окурки и прочий мусор… — делилась с сослуживцами несколько дней тому назад монументообразная Алла Афанасьевна. — Мой бывший муж за столом предложил тост за добродетели своей незабвенной Музы Станиславовны, его предпоследней супруги. Это было в мой последний день рождения.
— Вы же, Аллочка, рассказывали, что эта Муза давно и бесславно почила, — подначивал доцент Рыбкин. — А вместе с ней и угроза вашему, в ту пору еще тлевшему семейному камину.
— Разве смерть этой женщины что-то меняет? — Токарева насмешливо прищурила свои дальнозоркие глаза. — Дело отнюдь не в том, что Муза Станиславовна своим существованием угрожала нашему семейному благополучию. Ни боже мой! Я сама покупала соки и апельсины, которые Бакутин возил ей в больницу. Этим, как вы понимаете, я только вызывала к себе уважение друзей. Но перечислять в присутствии посторонних людей, а тем паче ныне здравствующей жены, достоинства и добродетели усопшей — тут уж, как говорится, прошу пардона. Моя школьная подруга после этого перестала мне звонить, обвинив меня в полном отсутствии женского достоинства. Ты, говорит, так низко пала за время своего замужества…
Я целый день приглядывалась к Алле Афанасьевне, в перерыве подсела к ней покурить. «Постарела, постарела ты, мисс Прайд[1], за последнее время, — думала я, поглядывая на нее украдкой. — Вся словно тряпка обвисла. Анекдоты не травишь, студентов зачетами изводишь, хотя раньше нас за въедливость корила. Видно, нелегкое это дело — отстаивать в глазах знакомых элементарное женское достоинство».
— Ты бы, голубушка, вязать меня научила, что ли, — вдруг попросила меня Алла Афанасьевна. — Правда, вязаные вещи мне не идут, но, говорят, сам процесс вязания полезен. Для нервной системы. Я как-нибудь принесу спицы и шерсть.
Я разочарованно сунула недокуренную сигарету в жестянку из-под растворимого кофе и пошла в туалет прополоскать рот.
Райка позвонила в одиннадцатом часу, когда мы с Егором уже готовились ко сну. Райка раза два в году ночует у меня. Главным образом после особо бурной сцены с очередным «мужем». Она часто приходит ко мне без предварительного звонка и в сценическом гриме. В тот день она позвонила мне сразу после спектакля, доложила о своем «полном и окончательном раскрепощении от этих одноклеточных» и явилась, источая аромат «Черной магии» и еще не выветрившуюся магию сцены.
Мать не перестает удивляться моей возникшей, как она утверждает, «на голом месте» симпатии к Райке. Мы же иной раз можем просидеть целую ночь за чаепитием и воспоминаниями. Райка танцует в кордебалете театра оперетты, до пенсии ей два года, хотя она всего на восемь лет старше меня. Пенсии боится, как чумы, театр свой обожает и, стараясь заразить этим чувством меня, с восторгом рассказывает о театральных романах и интригах.
— Ты, подружка, закисла в своей банке с водорослями, — вещала Райка, отрезав большой кусок торта. — Хочешь, познакомлю с нашим новым премьером?
— Премьеру премьерша нужна, — возразила я. — Статистки вряд ли попадают в фокус его зрения.
— Несчастная жертва самокритики! — Райка фыркнула. — Да он тебя в королевы произведет, стоит тебе заговорить на твоем чистокровном английском.
— Королевам в наше время горничных предпочитают, — делаю я неожиданный для себя вывод.
— Это уж точно.
Райка посерьезнела, даже помрачнела и надолго замолчала.
В тот день я не боялась, что Райка заговорит о Кириллиных. Все, за исключением финала, происходило, можно сказать, у нее на глазах. Да и о подробностях финала она могла составить себе представление из моих хмыканий и отдельных междометий в ответ на ее вопросы. Райке в житейской мудрости не откажешь. И в чуткости тоже — который год во всех наших экскурсах в прошлое она умело обходит неприятные для меня подробности. От этого наши воспоминания похожи на приключенческую книгу, из которой выдрали самые интересные страницы. До определенного времени это меня вполне устраивало. Но в тот день я вдруг поняла, что мне необходимы острые ощущения.
— Раек, вчера, а точнее сегодня, я посетила небезызвестную тебе Кириллину.
От неожиданности Райка уронила на клеенку кусочек торта с ложки и отправила его в рот пальцами.
— Она позвонила мне поздно вечером и попросила срочно приехать, — тараторила я, опережая Райкины комментарии. — Она опустилась, постарела, но по-прежнему строит из себя… А он… — Я сделала глубокий вдох и призвала на помощь всю свою силу воли, — он спивается, скандалит с супружницей. Словом, катится по наклонной. — Я боялась готового сорваться с Райкиных губ вполне уместного в данной ситуации «так им и надо» и строчила как из пулемета. — Кириллина дальнюю родственницу пригрела, а Саша с… Валентиной гонят ее к чертовой матери. Эта… Валентина парикмахерша. Кириллина ее презирает. — У меня звенело в ушах и плыло перед глазами. — Собака у них изумительная — ньюфаундленд. Я влюбилась в Рыцаря без памяти.
Райка глянула на меня с укором, открыла было рот, помялась несколько секунд, но все-таки спросила:
— Его видела?
Я кивнула, попыталась отхлебнуть из пустой чашки, полезла в коробку за тортом, хотя передо мной на блюдце лежал нетронутый кусок.
— Слава Богу, — изрекла Райка.
— Почему — слава Богу? — спросила я, хотя с ходу уловила направление Райкиных мыслей. Я не могла согласиться с ней до конца.
— Наконец померкло ясно солнышко, и да здравствует новый день! Недаром я толкую тебе целый вечер про нашего нового цыганского барона.
— Как же ты, Райка, испорчена своей сценой, — изрекла я и тут же в душе осудила свое ханжество.
— Ладно, не будь занудой. Ты ему, наверное, принцессой показалась. Теперь свою бедную парикмахершу совсем с дерьмом смешает.
— Кириллина говорит, она имеет на него громадное влияние.
— Это благодаря чему, позвольте спросить? — оживилась Райка.
— Понятия не имею.
Я извлекла из холодильника полбутылки выдохшегося шампанского, оставшегося от прошлого Райкиного визита. Я знала, что утром пожалею о том, что выпила на ночь. И о том, что с Райкой разоткровенничалась, тоже пожалею. Но мне было необходимо говорить, слышать себя со стороны. Я так долго молчала.
— Видела бы ты, во что их квартира превратилась. И Варвара Аркадьевна тоже.
— А он?
— Веришь, ничего не могу сказать. Не знаю. Не помню.
— С тобой все ясно. — Райка повертела в своих костлявых пальцах бокал с желтоватым вином. — А ее видела?
— Нет. Хотя, погоди… Ну да, кто-то выглянул, когда я уже в шубе была. Какая-то бесформенная глыба.
— Дачу они, наверное, продали.
— Понятия не имею.
Я вдруг отчетливо увидела заросший березками большой участок в Жаворонках, зеленый деревянный дом с мансардой и двумя просторными верандами. У меня там даже когда-то своя комната была — окнами на куст белой сирени. Сердце заныло при мысли о том, что в ней теперь, вероятно, живет кто-то чужой.
— Хивря ты, Татьяна, вот что я тебе скажу, — изрекла Райка. — Лучшие годы ухлопала на этого… двухклеточного. А в нашем возрасте трудно наверстывать. Тем более что Москва — ярмарка невест. Разве что на периферию податься.
— А как же твой цыган-премьер?
— Так то ж для минутного плезира. Неужели, подружка, не волокешь? Таких на приличную жилплощадь не прописывают. — Райка вдруг наклонилась над столом и спросила таинственным шепотом: — Так это из-за той парикмахерши он тебя бросил?
— Я бросила, понимаешь?
— Не вижу разницы.
— Нет, не из-за нее… Та красивая была. На Лиз Тейлор похожа. В нее все наши ребята были влюблены.
Я вспомнила, как Лерка отплясывала на той проклятой вечеринке на даче у Кириллиных: руки, как у языческой танцовщицы, сквозь упавшие на лицо волосы сияют необыкновенного цвета и разреза какие-то нездешние глаза. Я стояла рядом с Сашей. Он вдруг схватил меня за руку и больно стиснул ее. Потом… Потом я помню, как безжалостно ухмылялись надо мной июльские звезды.
— Куда же, интересно, делась та сексуальная дива? — услышала я словно издалека Райкин голос. — Ну да, пока ты ушами хлопала и играла ему Шопена, эта Тейлориха предложила ему нечто более существенное. А он нажрался как следует и в лес удрал.
Лучше бы я произнесла монолог перед Егором. Похоже, Райка вошла во вкус.
Мне и самой непонятно, куда делась Лерка. Разумеется, можно спросить у Кириллиной, да много чести — еще подумает, будто вся моя жизнь вокруг их семейки вертится.
Райка уснула прямо на голой тахте — балетная привычка. Я легла в свою давно не убиравшуюся постель с книгой, которую сунула мне на прощание Варвара Аркадьевна. Чтоб не разреветься, открыла подальше от начала, как раз на письме лорда Байрона к Терезе Гвиччиоли. Свихнуться можно от всех этих «любовь моя», «душа моя». Я всеми силами старалась выйти из расслабленного состояния, окидывая себя холодным взглядом со стороны: экзальтированная девица, которая вот-вот четвертый десяток разменяет, только что излившая за бутылкой вина подружке душу, а теперь готовая оросить слезами подарок от первой любви, запоздавший на целое десятилетие. Махровая пошлость.
Я захлопнула книгу и собралась уже затолкнуть ее под тахту, как вдруг обратила внимание на торчавший из нее уголок.
…Таким, как на этой карточке, я не видела Сашу никогда. Словно за его спиной не двадцать два, а по меньшей мере раза в два больше. На обороте год и одно загадочное слово — «Ерепень». По обе стороны от Саши какие-то дети, которых я поначалу не заметила, — наверное, ученики.
Ерепень… Дикое, точно вздыбившееся слово. Как бурлящая в паводок река. Как острые колючки степного татарника. Что это его занесло в эту глухую мрачную Ерепень?..

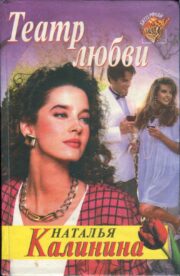
"Театр любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Театр любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Театр любви" друзьям в соцсетях.