В приступе безудержного веселья я показала им фанданго в его настоящем, исходном виде. Мощь этого великолепного танца пронизала все мое тело, разочарования уходящего года зажигали каждый шаг. Я с силой мотнула головой, и прическа неожиданно рассыпалась, волосы хлынули на плечи, на спину. Я подобрала юбки. Пальцы мои стали поющими птицами, затем — удивительными цветами, нимбом окружившими мне голову. Я прикрыла глаза. На несколько драгоценных мгновений я вновь оказалась в Испании, в цыганской пещере, и будущее опять представилось в розовом свете. Снова у меня голова пошла кругом от взорвавшихся аплодисментов.
Студенты в восторге громко кричали и топали, затем подхватили меня, вскинули на плечи и торжественно понесли по гостиной. И тут я прямиком угодила головой в хрустальную люстру под потолком. Очнулась я на полу, с разламывающейся головой, с рассеченного лба текла кровь. Очень скоро история эта разлетелась по Мюнхену; говорили, будто моя одежда была растрепана, а студенты — вообще без штанов.
На следующей неделе я появилась в театре в новом платье темно-синего бархата, которое великолепно оттеняло мои новые роскошные бриллианты — на шее, на запястьях, в волосах. При малейшем движении я рассыпала сверкающие брызги света. Сидя в собственной ложе, я видела, как недовольна публика в зале.
Проведя в Мюнхене два года, я ощущала себя птицей в золоченой клетке. Куда бы я ни пошла, всюду на меня глазели и насмехались. А я замечала каждый взгляд, каждую ядовитую насмешку. «Пока страсть пылка, собирайте драгоценности», — то и дело всплывали в памяти поучения бывшей горничной Эллен, и я каждый раз с досадой гнала их прочь. Еще вспоминались куртизанки в итальянской опере, в Лондоне. Какими светскими дамами они казались, как глухи были к насмешкам и пересудам.
Из своей обитой бархатом ложи на верхнем ярусе я оглядела поднятые лица зрителей, их шевелящиеся губы, отлично зная, что именно говорят в зале. Я — вавилонская блудница в их почтенном обществе. Я — ведьма, околдовавшая их обожаемого короля. Празднование Нового года в моем доме и впрямь вышло шумноватым, однако впоследствии эту историю раздули невероятно. На сцену никто не смотрел, хотя балет был неплох. Пожав плечами, я бросила взгляд на королевскую ложу. Увы; даже мне самой пришлось признать: не осталось никакой надежды на то, что меня когда-нибудь примут при дворе. Я пощупала бриллиантовое ожерелье. По крайней мере, Людвиг меня не покинул. Золотые оправы были изготовлены в Париже, сами бриллианты — из Индии.
Поворачивая голову, я ощущала тяжесть сверкающих камней в роскошной диадеме. В зале шептались о том, какую уйму денег король потратил, чтобы мне угодить, а я безуспешно пыталась подавить улыбку. В королевской ложе, сидя рядом со своей венценосной супругой, Людвиг изо всех сил старался сохранить хладнокровие.
В тот замечательный вечер я ненадолго ощутила себя всемогущей. Глядя на поднятые лица в зале, я едва сдерживала смех. Раз уж мюнхенский архиепископ вздумал наградить меня титулом богини любви, я с радостью его принимаю. «В Мюнхене более нет Девы Марии, ее место заняла Венера», — так он говорил, а я искренне гордилась собой, и гневные слова архиепископа кружились над моей головой, будто нимб. Весь зал глядел на меня; все зрители думали и шептались обо мне. И впрямь: если ваш Богом данный король склоняется у моих ног, то кто же тогда я такая? Пусть рухнет прежний порядок, погибнет сговор королей, пусть дворянский титул перестанет что-либо значить!
Перед моим мысленным взором этот вечер уже был запечатлен в вечности. Я видела свои портреты в газетах, отпечатанных в типографиях по всей Европе; репродукции, продаваемые на газетных лотках. Мое изображение дарил посетителям концертных залов волшебный фонарь. Дрожащим светящимся миражом я парила над ночными столицами. Мой портрет был шедевром, написанным в стиле французского романтика Эжена Делакруа — исполненным в полный рост, маслом и темперой, источающим непреходящий свет. Через сто лет я буду украшать стены частного дома, и темно-синий бархат платья будет великолепно смотреться на фоне пурпурной обивки театральной ложи. За спиной сияет огромная люстра, и в ее свете прекрасное лицо, шея и горло остаются молодыми и гладкими, белыми как алебастр, и каждый бриллиант сверкает тысячью крошечных огоньков… Сегодняшний вечер будет длиться целую жизнь, летящее мгновение растянется в вечность. И что бы ни случилось после, куда бы я ни отправилась, я буду вновь и вновь его вспоминать.
Конец первого акта
ИНТЕРЛЮДИЯ
С приходом весны в Европе зарокотали первые признаки революции. В каждом городе, большом и малом, громче становился шепот недовольных. По всей Баварии зрели заговоры, то и дело вспыхивали мятежи. В кофейнях и пивных люди схватывались в яростных спорах. Стоило кому-то повысить голос, как вспыхивала потасовка, и тлеющее недовольство то и дело выливалось в грабежи и поджоги.
АКТ II
Сцена восьмая
Сине-фиолетовый кашемир
(порванный, забрызганный кровью, заляпанный грязью и навозом)
Глава 32
Ясным морозным утром в феврале 1848 года случилась перебранка на базаре, и мало-помалу вокруг ссорящихся торговцев собралась толпа народу. На другом конце города, где стоял на Барерштрассе красивый, похожий на маленький дворец особняк, служанка открыла дверь кухни, из которой наружу вырвалось целое облако пара, и через порог выскользнула непоседливая белая собачка по имени Зампа.
В гостиной, завешанной драпировками из зеленого «мокрого» шелка, сидела женщина, занятая делом. Она вырезала статьи из газет; стопка на столе постепенно худела. В пепельнице дымилась недокуренная черная самокрутка. У ног дамы лежали распотрошенные газеты — лондонские, парижские, берлинские.
Издалека — сквозь высокие окна с металлическими решетками, из-за кованых чугунных ворот с двумя стражниками в мундирах, из-за обсаженной тополями Барерштрассе — доносился едва слышный гомон далекой толпы.
Взяв затухающую самокрутку и затянувшись, я неожиданно устыдилась. Только что я представляла себя как героиню некой пьесы. Отчего-то вдруг слишком легко стало переноситься в вымышленный мир, смешивать вымысел с реальностью, верить тому, что пишут в газетах.
Я задумчиво оглядела газетные вырезки, сложенные на коленях.
— Ну, и кем же я буду сегодня?
В огромном венецианском зеркале, что висело над камином, я увидела собственное отражение. Спутанные темные кудри и густые, почти что мужские брови обрамляли бледное осунувшееся лицо. Пожалуй, если те самые люди, что шумят на улицах города, вдруг ворвутся сюда, их ждет большое разочарование… По зеркалу неожиданно поплыли темные облачка, отражение затуманилось, и я вспомнила молодую женщину с заплаканными глазами, с синяками на теле. В ушах прозвучал голос моей матери: «Ну а что же ты ожидала?» В зеркале Лола — или Элиза, или Мария — отшатнулась, словно от пощечины.
— Я — Мария, графиня фон Лансфельд, не забывай, — объявила я, однако эти слова вернулись глумливым эхом.
Открыв на чистой странице альбом в алом переплете, я потянулась за баночкой клея. Все утро я старалась не обращать внимания на доносящийся снаружи шум, однако он становился все громче, пробиваясь в сознание и действуя на нервы. Пусть Людвиг одарил меня титулом и богатством, не в его силах рассеять враждебность, которую испытывали ко мне жители Мюнхена.
Уже три дня я не могла выйти из дома, сидела в нем, как в заточении.
Я наклеивала последние вырезки, когда в гостиную ворвалась Сусанна, восклицая:
— Собака! Зампа опять убежала! Ach nein[50], мадам! Вам никак нельзя выходить. Bitte[51], я прошу вас!
Глава 33
Я всегда с радостью встречала перемены — будь то повороты в моей собственной судьбе, гроза или даже страшный лесной пожар, однако результат неизменно заставал меня врасплох. Вот и сейчас: в тот самый миг, когда я пыталась примириться с давшей трещину реальностью, это хрупкое здание неожиданно рухнуло. В течение одной-единственной недели все повернулось на сто восемьдесят градусов: лишь недавно я взирала на театральную публику из обитой бархатом ложи — а сейчас лежала беспомощно на земле, а меня рвала на части и топтала ногами озверелая толпа.
Конечно, я понимала, что мне нельзя и носу высунуть из дома. Сусанна умоляла меня остаться. Однако стоило мне услышать, что Зампа исчезла, я уже просто не могла сидеть сложа руки. На моей крошечной белой собачке был надет украшенный алмазами ошейник, и на серебряной пластинке выгравировано мое имя. Страшно подумать, что станется с бедняжкой, если она попадется взбудораженной толпе. Нет-нет, невозможно оставить ее на произвол судьбы! Вот уже неделю в городе беспорядки, все утро вдалеке слышны шум и крики. Низкий зловещий рев толпы, которая порой вдруг начинает петь, не предвещает ничего хорошего даже укрытому за стенами собственного дома человеку; что уж говорить о беззащитной собаке!
Вздрогнув, я открыла глаза, вскинула сжатые кулаки, готовая отбиваться и встретить ударом любого, кто осмелится напасть. В смятении огляделась. В камине догорали угли, на полу валялся гребень из слоновой кости. Сообразив, что нахожусь в собственной гостиной, я с облегчением откинулась на спинку кресла. Никаких сил нет… Что случилось? Сусанна брызгала мне в лицо лавандовой водой. В затылке болезненно стучало — как будто молоток бил по деревяшке. Шевельнувшись, я обнаружила, что голова тяжелая, будто налита свинцом. В ушах звенело. Внезапно я перепугалась: разве я не была снаружи? На Барерштрассе? Ведь надо было там что-то искать! Кожа покрылась липким потом, я едва могла вздохнуть.

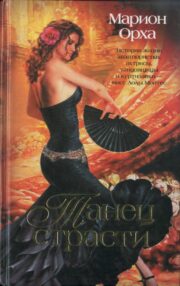
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.