— Ваша нога несравненна, — объявил король. — Прямо-таки античный идеал.
Статуэтку он использовал как пресс-папье: на королевском письменном столе под ней лежали бумаги государственной важности. Увидев это впервые, я не сдержала улыбку. Сам того не подозревая, Людвиг уже каждое свое решение принимал с моим участием.
Недолго, но счастливо мы жили в заколдованном мире испанских баллад и любовных романов. Стояла холодная баварская зима, а мы обитали в мире жаркого солнца, джакаранды, длинных теней на закате и серенад под гитару.
— Я ощущаю себя Везувием! — восклицал Людвиг. — Все вокруг полагали, что я уже выгорел и угас, но только посмотрите на меня теперь! Я снова живу великолепной полной жизнью; это поистине извержение проснувшегося вулкана. Я полон сил, как двадцатилетний юноша!
В стране было неспокойно, то и дело вспыхивали мятежи, а мы с королем учили наизусть строки испанских поэтов. В парке мы гуляли среди унылых голых деревьев, читая стихи о тяжелых гроздьях винограда и о цыганских королевах. Когда правительство ушло в отставку, не пожелав предоставить мне баварское гражданство, Людвиг просто-напросто назначил других министров. Да, пожалуй, у абсолютной монархии были свои несомненные достоинства. Впервые после отъезда из Парижа я крепко спала по ночам.
Пришла весна, и деревья начали оживать, на ветвях набухли зеленые почки. Несмотря на все свои торжественные заверения в исключительно платонической любви, Людвиг возжелал большего, нежели моя дочерняя привязанность. Пробудившийся вулкан оказался сластолюбцем. В тщетной попытке сдержать страсть король заказывал художнику мой портрет за портретом. Таким образом он мог обладать мной хотя бы на холсте, если не во плоти. И когда Людвиг в конце концов облек свои желания в слова, заговорил он об искусстве. Разве нагое тело не было в Античности идеалом красоты? Разве не могу я позволить ему хоть мельком увидеть мои чудесные икры, роскошные бедра, бесподобную грудь?
— Что?! — вскричала я, едва это услышав. — Вы готовы выставить меня обнаженной перед миром?! Я знаю: ваши подданные ни в грош меня не ставят; теперь ясно, что и вы тоже.
— Но ведь вы могли бы сбросить одежды для меня одного, — взмолился он. — Вы стали бы изысканной живой скульптурой, ласкающей взор короля — и больше ничей.
Я швырнула в него туфлю. И после этого, как могла, тянула время, размышляя, что предпринять. Пока Людвиг меня идеализировал, он вызывал у меня ответную нежность. Но стоило ему потребовать того же, чего желали все прочие мужчины, как он сделался мне противен. Его поцелуи становились все более пылки, а я — все более холодна. Однако же я ему позволяла время от времени поцеловать то лодыжку, то коленку. Однажды, принимая ванну, я даже разрешила потереть мочалкой мне спину. Сама себе в том не признаваясь, я оказывала монарху мимолетные милости, которые сильно его возбуждали, а дальше ему приходилось справляться одному, без меня.
Через два дня после того, как королева покинула на лето Мюнхен, Людвиг потребовал, чтобы мы стали близки. Поскольку я уже прежде истощила весь свой запас отговорок, сейчас не нашла что возразить. Глубоко вздохнув, я повела короля к хрустальной лестнице. Ее ступени сверкали, вспыхивали миллионом разноцветных искр, отражались в зеркалах. Мы как будто поднимались по лестнице, созданной из мерцающего света, из тысяч крошечных радуг. Я взглянула на дряблое морщинистое лицо короля, на его слезящиеся глаза, на руки в старческих пятнах. Горестно вздохнув, прошла последние несколько ступенек.
В гардеробной я медленно разделась; руки и грудь покрылись гусиной кожей. Облачившись в скромную белую рубашку с белой же вышивкой, я пришла в спальню и легла в постель, где уже ждал сгорающий от нетерпения Людвиг. Откинулась на подушки и закрыла глаза. Все произошло очень быстро и бестолково; Людвиг суетился и оправдывался. А я подумала об Александре и едва не заплакала. Потом я уверила монарха в своей нежнейшей привязанности и притворилась, будто уснула. Лежа с закрытыми глазами и стараясь ровно дышать, я с горечью думала: «Король — знаток своего дела. Он приобрел меня, как чистокровную лошадь или редкостную старинную книгу. А я-то — последняя дура! Пыталась играть в его игры. И разумеется, проиграла».
Каких-то шесть месяцев потребовалось, чтобы монарший идеал платонической любви рухнул и так некрасиво разбился. Однако я — не картина, не редкая орхидея или роза. Пусть Людвиг проник в мою спальню, он не в силах вселиться мне в душу.
Глава 30
На втором этаже, в дальнем конце коридора, за непритязательной дверью была скромная комнатка, отделанная в кремовых и белых тонах. Моя спальня — единственное место в доме, которое было предназначено лишь для меня одной, больше ни для кого. Я могла уйти туда, закрыть дверь и забыть о том, что надо угождать Людвигу, завоевывать признание его подданных, что будущее мое по-прежнему неопределенно и тревожно. В спальне я могла отдохнуть, побыть с собой наедине, ни о чем не заботясь. Это было мое личное пространство, мое убежище, мой приют; и никому не дозволялось в него вторгаться. Стены обтянуты снежно-белым шелком, шторы — из кремовой муаровой тафты, а когда их раздвигали, дневной свет лился сквозь тончайшую прозрачную ткань с отделкой из сицилийского кружева. В отличие от всех прочих комнат в спальне не было ни одного зеркала и очень мало мебели. Небольшая кровать с резными птицами, розами и завитушками — точь-в-точь моя детская кроватка в Индии — была накрыта молочно-белым покрывалом с вышивкой на индийский лад, золотыми нитями. В углу стоял письменный стол розового дерева; в нем я держала стопку писчей бумаги, несколько старых любовных писем и свои дневники, обклеенные кусками ткани, что остались от любимых платьев. Нередко мы с Зампой вдвоем укладывались на постель; собачка спала, а я читала роман. Или, если была в настроении, сочиняла письмо к Софии, а порой исписывала страницу-другую в дневнике.
Людвиг засыпал меня любовными стихами, исполненными уже отнюдь не платонической любви, а откровенного сладострастия. А мне становилось все горше, все тоскливее. Не так-то легко было погасить этот некстати пробудившийся Везувий. Требования Людвига росли, и я отступала все дальше в глубь дома. Но куда бы я ни пыталась спрятаться, король упорно следовал за мной. Какие бы уступки я ни делала, он желал большего. И когда он взошел по хрустальной лестнице, отступать уже стало некуда; не сохранилось ни единого уголка где я могла бы побыть в полном одиночестве. Порой казалось, что моя собственная жизнь просачивается между пальцев и странным образом исчезает. В доме пропадали всякие мелочи; безделушки и украшения почему-то оказывались не там, где, как я отлично помнила недавно были. Не раз мне приходило в голову, что меня обворовывает кто-то из слуг.
Спустя месяц после того, как я переспала с Людвигом, моя чудесная спальня превратилась в больничную палату, где стоял отвратительный дух уже знакомого, увы, недуга. Я лежала на сырых простынях, беспомощная, как младенец, в липком поту; на столике возле кровати теснились синие пузырьки с лекарствами, стопкой были сложены влажные полотенца.
Когда наставали трудные времена, тут же возвращалась малярия, которой я впервые заболела в Индии. В бреду ко мне приходила Сита, а потом — Джасвиндер; она заботливо промокала лоб, а затем принималась меня пороть. «Простите!» — кричала я, а больше ничего поделать не могла. Джасвиндер не уходила, стояла возле кровати, и на ее красивом лице читались разочарование и смирение. Я бессильно откидывалась на подушки, глубоко вздыхала; моя крошка Зампа лаяла в испуге и смятении, не в силах понять, отчего хозяйка не поднимается с постели и не идет гулять. Между неплотно задернутыми занавесками виднелась полоска яркого летнего неба. Прошел июнь, закончился июль, а я все болела и болела. И горько спрашивала сама себя: что же я натворила? Во что же я превратилась?
Куда бы я ни взглянула, всюду виделся след Людвига — казалось, он ухитрился прикоснуться ко всему, что только было в доме, все испачкать и испортить. Вот поправлюсь — займусь переделками, даже если придется самой обдирать со стен белый шелк. В памяти бесконечно всплывало лицо баварского монарха, когда он трудился, навалившись на меня сверху. Каждая вмятинка и любой бугорок напоминали о Людвиге, и не было возможности изгнать отсюда эти воспоминания. Да я вообще могла бы превратить свою белую целомудренную спальню в будуар шлюхи — оклеила бы стены алыми обоями, увешала бы зеркалами в позолоченных рамах. Уж точно, не было бы хуже, чем теперь. Будь он проклят, думала я; и будь проклята я сама! Каждый день я просила свою горничную Сусанну менять постельное белье, надеясь, что рано или поздно воспоминание о той ночи потускнеет.
Людвиг являлся каждое утро, однако я неизменно отказывалась его принять. Сусанна приносила начертанные королевской рукой записки, полные слов тревоги и любви, и монаршие свежайшие стихи, но я не желала их читать. Мысль, что Людвиг готов дать все, о чем я ни попрошу, лишь усиливала мое чувство безысходности. Надо уезжать из Мюнхена — вот только куда? В Лондон, Париж, Берлин? В любом из этих городов я уже побывала, в каждом случился какой-нибудь скандал. Когда-то давно я сама себе обещала, что в жизни не буду возвращаться по собственным следам, но куда же мне идти? А что, если я оказалась в ловушке и придется остаться в Мюнхене навсегда? Думая об этом, я неизменно приходила в ужас. Денег у меня сейчас было больше, чем когда-либо, однако на душе становилось все хуже и хуже.
Чуть только я пошла на поправку, Людвиг уже был тут как тут. В щенячьем восторге, он не желал расставаться со мной ни на миг. Если я не запирала дверь у него перед носом, он следовал за мной в гардеробную и даже в ванную комнату. Пытаясь удержать его на расстоянии — или хотя бы за дверью спальни, — я ссылалась на хрупкость собственного здоровья. Это не помогало; тогда я принялась толковать Людвигу о последствиях малярии, которая, несомненно, меня сильно ослабила, о страхе забеременеть, о возможных пагубных последствиях любых физических нагрузок.

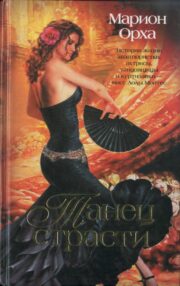
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.