Чуть дальше, на платформе, стоял русский царь, я его уже отчетливо видела. Заветная цель! Я смерила взглядом офицера, который мешал ее достичь. У него было худое, властное лицо и жесткие холодные глаза. Однако я была намерена во что бы то ни стало добиться своего, нравится это военным или нет.
— А ну пусти! — прошипела я.
Офицер лишь крепче сжал уздечку. Он тоже был намерен настоять на своем. Я щелкнула хлыстом. В долю мгновения перед мысленным взором промелькнули два образа: вот я пытаюсь отбиться от нелюбимого мужа, а вот я, еще маленькая, в страхе съежилась перед суровым настоятелем кафедрального собора. У офицера на верхней губе выступили блестки пота — совсем как у настоятеля Крейги, когда он меня порол, «дисциплинируя», — и от этого меня захлестнуло тошнотворное чувство страха и унижения.
Ярый, которому не нравилась чужая рука на уздечке, взвился на дыбы; копыта мелькнули в воздухе. Потеряв голову, я занесла хлыст.
Покинув Англию, я бесконечно терпела оскорбления и обиды; этот прусский офицер просто-напросто оказался той последней каплей, что переполняет чашу терпения. И, в одном ударе выплеснув накопившуюся обиду и боль, я хлестнула его по лицу.
Офицер отшатнулся.
Я — тоже.
Толкущийся позади народ охнул. Знатные гости возле королевской платформы отвели взгляды.
У офицера на шее и щеке налились красные полосы от удара, затем выступили капельки крови. Хлыст располосовал кожу, словно бритва.
— Вы дорого за это заплатите, сударыня, — проговорил офицер.
Я открыла рот — и закрыла, не произнеся ни слова. Затем все же заставила себя ответить.
— Будьте любезны отпустить уздечку, — прошептала я, и эти едва слышные слова дались с таким трудом, словно я ворочала огромные камни.
Тем временем пешие и всадники прорвались сквозь кордон полицейских, точно бешеный речной поток — сквозь ненадежную плотину. Офицер бросил взгляд на спешащий мимо народ, а я смотрела на него, стараясь сохранять хладнокровие. Ладно: он может не пустить меня — а как он сладит с этой могучей толпой? Офицер выругался и наконец выпустил уздечку Ярого.
Двинув коня к королевской платформе, я похлопала жеребца по шее, бормоча что-то утешительное. У меня самой сердце так и колотилось, громом отдаваясь в ушах; щеки горели огнем. Возле платформы какой-то русский адъютант предложил занять место возле него; я вымучила благодарную улыбку, однако перед глазами неотступно стояло: мой хлыст впивается офицеру в лицо, на коже наливаются красные бисеринки. Не выполнивший свое обещание прусский дипломат заметил меня, однако тут же отвел взгляд, словно мы не были знакомы. Празднично украшенная платформа находилась совсем рядом, однако мне туда путь был закрыт. Окруженный непреодолимым кордоном гвардейцев, русский царь подавил зевок.
На следующий день мне предъявили обвинение в оскорблении действием офицера прусской армии.
Конечно же, я совершенно напрасно пустила в ход хлыст. Я пожалела об этом, едва увидев кровь на лице своего противника. Снова и снова я мысленно проигрывала эту сцену, как будто таким образом могла сыграть ее иначе, изменив реальный ход событий. Сознавая, что пересекла невидимую грань и вторглась на неведомую и крайне опасную территорию, я не знала, как вернуться обратно. Больше полутора месяцев потребовалось, чтобы шум утих и обвинения с меня потихоньку сняли. Мне позволили покинуть Берлин, однако шлейф некрасивой истории отныне тянулся за мной повсюду. Куда бы я ни приехала, всюду немедленно становилось известно, как я отстегала прусского офицера. А уж когда эту историю подхватили зарубежные издания, происшествие разрослось в событие мирового масштаба. В газетах печатались карикатуры — целые полки в ужасе бежали при виде моего занесенного хлыста, а в публичных домах мужчины выстраивались в длиннющие очереди, желая получить удар плетью от Лолы Монтес. Где бы я ни выступала, журналисты вновь и вновь вытаскивали на поверхность и смаковали эту историю.
Глава 24
Унылым ноябрьским вечером я прибыла в Варшаву; меня там уже ожидали.
Порой я ощущала себя Минервой, которая вышла полностью зрелой из головы Юпитера, своего отца. Некоторые люди спешили убраться прочь, едва услышав мое имя; незнакомцы остерегались докучать, страстные поклонники позволяли себе меньше вольностей. Директора театров больше уже не уклонялись от прямого ответа насчет моих гонораров, а сразу соглашались выплатить половину кассового сбора. Порой я сама себе казалась бессмертной. Подчас начинала думать, будто и в самом деле могу позволить себе вытворять что вздумается: в газетах печаталось множество искаженных и до нелепости раздутых историй, и публика уже чуть ли не ожидала от меня новых эскапад.
Возле отеля, где я намеревалась остановиться, меня поджидали журналисты. В черных плащах с капюшонами они напоминали стаю воронья, слетевшуюся на падаль. Великодушно улыбаясь, я миновала их, не вымолвив ни слова.
Варшава напомнила мне Дублин; здесь точно так же на городских улицах чувствовался сельский дух. Меж величественными зданиями в классическом стиле ютились многочисленные ветхие лачуги. По булыжным мостовым грохотали подводы. Девушки в завязанных на груди крест-накрест платках орудовали метлами из прутьев, сметая груду желтых листьев. На перекрестках уличные мальчишки и девчонки продавали грубо расписанную оловянную посуду.
Высшее общество в Варшаве отчетливо делилось на два лагеря. Если русские завоеватели держались ближе к двери, то поляки собирались ближе к камину, и наоборот. Ко мне русские относились с некоторым подозрением, поляки были настроены более дружески; с ними я мгновенно ощутила некое родство, душевную близость и теплоту. На первом же званом вечере меня представили Петру Штейнкеллеру, богатому польскому промышленнику, который обожал свою страну и театр. Едва познакомившись, мы уже вдвоем наблюдали за перемещением русских и поляков по комнате, составляя замечательные планы моих выступлений.
Директор Большого театра — русский — погладил свои военного вида бакенбарды, и затем его губы медленно расползлись в похотливой улыбке. Едва глянув на мои рекомендательные письма, он небрежно их отбросил на край стола.
— Вижу, что вы танцевали в Шауспильхаус. Мне этого достаточно. Мы с вами станем лучшими, очень близкими друзьями.
Я вопросительно приподняла бровь.
Полковник Игнасий Абрамович был высокий, худощавый человек немного старше пятидесяти. Руки у него были худые, костлявые и очень длинные, и оттого он напоминал огромного доисторического паука.
Быстро обговорив даты и условия моих выступлений, полковник вдруг крепко взял меня за руку выше запястья и заявил, что непременно желает отвезти меня в гостиницу в собственной карете. Я согласилась.
В карете он буквально ощупал меня проницательным взглядом и неожиданно сообщил:
— Я — глаза и уши Варшавы.
— Надеюсь, мои танцы совершенно безобидны, — ответила я.
Полковник засмеялся и положил руку мне на колено.
— Вы очаровательны. Какой вред может быть от такой милой маленькой танцовщицы?
На первом моем выступлении в театре был аншлаг. Как только я вышла на сцену и щелкнула кастаньетами, зал взорвался аплодисментами, мне под ноги полетели цветы. Аплодисменты не смолкали до самого конца.
После выступления я настежь распахнула дверь своей уборной, ожидая, что поклонники хлынут лавиной. Однако за дверью оказался лишь один крошечный морщинистый старичок в генеральском мундире, с букетом лилий в руках.
— А вы кто такой? — сорвалось у меня совершенно невежливо.
Вслед за морщинистым гномиком из коридора явился полковник Абрамович и представил нас друг другу.
Услышав имя гостя, я вздрогнула, затем присела в реверансе. Старичок склонился поцеловать мне руку — и облобызал ее всю до плеча. Его сухие губы уже тыкались мне в плечо возле шеи, когда я сумела-таки высвободиться и отступить. Мой новый, нелепый с виду, но весьма грозный поклонник оказался князем Иваном Пашкевичем, царским наместником.
На протяжении последних двенадцати лет князь Пашкевич вместе с полковником Абрамовичем правили Польшей, и страна корчилась, зажатая в их железном кулаке. После того как в 1831 году было жестоко подавлено восстание сторонников польской независимости, Пашкевич стал князем Варшавским, а Игнасий Абрамович возглавил тайную полицию. За всеми в Польше теперь следили молчаливые внимательные глаза российского государства. Из страны уехали десять тысяч активистов восстания и ученых. Поэты и писатели томились в тюремных камерах либо были высланы в Сибирь, откуда о них уже не доходило никаких вестей. Самые страшные казематы, по слухам, находились прямо под бальным залом во дворце наместника.
Не прошло и нескольких дней, как оба мои почитателя себя проявили. Полковник Абрамович пригласил меня прокатиться в его обитой бархатом карете — предложил показать красивейший парк, — и я не смогла отказаться, отлично понимая, что от этого зависит мой контракт с театром. По пути в парк я благосклонно внимала комплиментам полковника. Снаружи дул сильный ветер, срывая с деревьев последние листья. Мы въезжали в парк через огромные кованые ворота, когда небо вдруг резко потемнело, хлынул дождь и забарабанил по крыше кареты. Абрамович, словно то был сигнал к действию, вдруг сгреб меня в объятия и впился своими тонкими холодными губами в шею. Я тщетно пыталась его оттолкнуть; полковника это лишь раззадоривало. Однако он принялся сражаться с моими юбками, и тут я укусила его за щеку.
Полковник отпрянул, схватившись за лицо.
— Мадам, — проговорил он, — вы за это дорого поплатитесь!
— Заблуждаетесь, сударь. Если о сегодняшнем происшествии узнает князь Пашкевич, то поплатитесь вы, а не я.

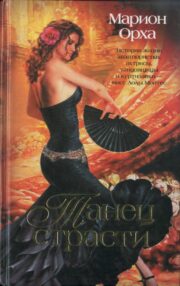
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.