Угнездившись на сиденье очередного экипажа, я расправила на плечах мохеровую шаль, прихлопнула шляпку, чтобы плотнее сидела на голове. Открыв потертое старое портмоне, я вынула свой талисман и крепко зажала в кулаке. Кольцо с большим рубином, которое отец когда-то с любовью подарил моей матери.
Навещая мистера Смолбоуна, ювелира, я часто брала с собой это кольцо и все же ни разу его не показала. Возможно, в глубине души я опасалась, что ювелир объявит кольцо дешевой подделкой, а для меня оно было бесценно. Что бы ни говорила моя мать, кольцо с рубином было весомым доказательством, что я — плод любви. К тому же это единственное, что у меня осталось в память об отце. Красный камень был точно капля крови, которая связывала нас друг с другом.
Постукивание колес убаюкивало тревогу и страхи. Мне нравилось движение; в дилижансах и каретах я чувствовала себя как дома, и путешествие из одного места в другое всегда доставляло большое удовольствие. В окно я видела проплывающий мимо новый мир. Чувство заброшенности, незащищенности и уязвимости принадлежало Элизе Гилберт, а вовсе не мне. Каждый раз, когда мне хотелось любить или мечтать, я вспоминала мать: как в Индии, в буйно цветущем саду возле дома, она заставляет меня отцепиться от ее подола. Элиза Гилберт — точно следы грязных пальцев на светло-зеленой юбке; она — жалкий сор, который надо поскорее вымести вон.
Покидая модные красивые бульвары, я попадала на узкие бедные улочки, где вонь кабаков смешивалась с ароматом свежего, только что испеченного хлеба. Я целенаправленно шагала, пропуская мимо ушей насмешки уличных мальчишек, торговавших булавками, не глядя на проституток в розовых чулках, что неспешно прохаживались по тротуарам. Возле дешевой гостиницы, где я остановилась, торговала шоколадом женщина с гнилыми зубами; я наблюдала за ней, а она — за мной. Я превосходно понимала, чем именно она торгует, а она, скорее всего, то же самое думала обо мне. На каждом шагу — нищета, повсюду — падшие женщины.
Видя, что я одна, без спутника или спутницы, мужчины нередко воспринимали это как откровенное приглашение к действию. Чего только я не натерпелась! В Гамбурге как-то раз меня окружили дети и принялись распевать непристойную песенку. В Лейпциге какой-то пьяный затащил меня на темную улочку и полез под юбки; я едва вырвалась. В Дрездене, Потсдаме и Берлине — повсюду ко мне приставали и лапали. Со временем я научилась отвечать приставалам и ради собственной безопасности вооружилась — обзавелась маленьким пистолетом, кинжалом и хлыстом из сыромятной кожи.
Я находилась в Берлине, когда получила целую кипу писем, пересланных моей теткой миссис Ри. Среди них было одно, которое поначалу чрезвычайно меня озадачило: карточка с траурной рамкой — сообщение о смерти миссис Элизы Джеймс, урожденной Гилберт, дочери миссис Крейги, проживающей в Калькутте. Я разглядывала карточку, ничего не понимая. Тут явно какая-то ошибка. Меня так давно не называли миссис Джеймс — а уж свою девичью фамилию я и сама едва не позабыла, — что я с трудом сообразила: речь-то идет обо мне. Тут сказано, что это я умерла! Меня передернуло. Нет, никогда уже нам с матерью не примириться. Ну что за женщина могла разослать официальные уведомления о смерти своей единственной — живой и здоровой! — дочери?
Сестра моего покойного отчима тоже прислала письмо. «Твоя мать очень переживала, получив известие, что ты выступаешь на сцене», — писала она среди прочего.
Ах, бедная мамочка! Может, надо ее пожалеть? Она так стремилась занять достойное место в обществе! А тут вдруг — скандал и полный крах. Слухи, будто почтенная миссис Крейги в прошлом была танцовщицей, внезапно обратились правдой о том, что ее собственная дочь бесстыдно пляшет на сцене. Ужасно. Немыслимо. Я живо представила, как мать затаилась в доме, не смея носа наружу высунуть. Что ж, если я — бессердечная и неблагодарная дочь, то ведь и она большего не заслуживает. Мать готова была пожертвовать моим будущим счастьем в угоду собственному честолюбию. А я, вместо того чтобы воплотить ее сладчайшие мечты, сделалась воплощением всех ее страхов.
Миссис Ри также вложила в конверт письмо покойного майора Крейги. Оно было датировано ноябрем 1841 года; должно быть, мой отчим написал его примерно за месяц до смерти.
Я прижала листок к сердцу; посидела так, справилась с волнением и заставила себя прочесть.
Майор писал: «Теперь ей уже ничем не поможешь. Моя милая крошка Элиза очертя голову бросилась в жизненный круговорот. Скажи ей, что, хотя мать на нее все еще сердится, это в основном из-за меня. Она страшно беспокоится, не повредит ли что-нибудь моей карьере. Конечно, действия Элизы достойны сожаления, однако мы всегда будем ее любить. Она с детства была очень упряма, этим она в свою мать. Да поможет ей Бог!»
В конце письма миссис Ри предлагала похлопотать за меня перед матерью. «Разумеется, нет на свете связи крепче, чем материнская и дочерняя любовь», — писала моя добрая тетушка.
В душе я горько посмеялась: я слишком хорошо знала собственную мать, чтобы надеяться на примирение. Однако на сей раз пришлось с ней согласиться. Я еще раз внимательно рассмотрела сообщение о моей смерти. Да, мама, ты права: Элиза Гилберт воистину умерла.
Глава 23
В день, когда в Берлине должен был состояться большой военный парад, я вызвала к себе в номер швею, чтобы она прямо на мне ушила костюм для верховой езды. Костюм должен был сидеть, идеально облегая формы.
— Сделайте туже; еще туже, — шептала я, пока очертаниями не начала походить на вырезанную из темного дерева фигуру на носу корабля.
Парад завершал государственный визит царя Николая I, и в Пруссии его полагали самым значительным событием года. Я специально ради него задержалась в Берлине. Собираясь на парад, я старалась гнать сомнения прочь, однако они вновь и вновь возвращались. Один прусский дипломат обещал провести меня за ограждение, где предстояло находиться королевским особам, и я от всей души надеялась, что дипломат не спохватился и не пожалел о своем обещании. Государственные деятели охотно общались с танцовщицами после наступления темноты, однако при свете дня да среди высшего общества — это уже совсем другое дело.
Мой путь из Гамбурга в Санкт-Петербург лежал через театры, где я выступала, однако я часто оказывалась без гроша в кармане, а туфли быстро протирались. Если бы русский царь лично пригласил меня выступить при дворе, театры охотнее открывали бы передо мной двери, да и кошелек бы, несомненно, пополнился. То, что Николай I неравнодушен к танцовщицам, было хорошо известно. Однажды на приеме он поразил гостей необыкновенным кушаньем: балетные туфли Мари Тальони[38] были поданы на серебряном блюде, в винном соусе. (Могу себе представить, как переглядывались смущенные гости! По счастью, им было предложено отведать лишь соус.)
Большой военный парад был моей последней возможностью произвести на царя впечатление. С самого раннего утра я места себе не находила, металась по гостиничному номеру в ожидании прусского дипломата. К одиннадцати часам я поняла, что он отступился от обещания. К половине двенадцатого осознала, что, если желаю присутствовать на параде, придется отправляться одной, без спутника.
В полдень я выехала из конюшни при гостинице на холеном вороном жеребце по имени Ярый; имя чудесно ему подходило. Костюм из лилового бархата с отделкой из мягчайшей замши сидел на мне как влитой; под блестящей черной шкурой коня играли могучие мускулы. Я дружески похлопала его по бокам, и Ярый охотно понес меня по Унтер-ден-Линден.
Было ясное октябрьское утро, желтые облетающие липы сияли под солнцем. Мимо нас с грохотом прокатилось начищенное до блеска орудие, легкий ветерок шевелил вывешенные флаги. Я направлялась к Фридрихфельд, и вместе со мной туда же валом валили горожане — пешком, верхом, в каретах, на старых телегах; казалось, берлинцы все как один двинулись вон из города. Я обгоняла стайки служанок с набеленными лицами — девушки шли под руку и не умолкая щебетали и смеялись. За тележкой молочника выступали, громко стуча подкованными каблуками, пять шлюх; яркие безвкусные платья с низким вырезом открывали взорам их бледные, от осеннего холодка покрывшиеся гусиной кожей прелести. Когда Ярый их обгонял, одна из девиц подмигнула мне и потерла кончики пальцев, словно шелестела банкнотами.
Я заторопила коня, стремясь поскорее оторваться от сомнительной компании: не дай бог и обо мне заодно подумают скверное. Рьяные прусские жандармы уже не раз меня останавливали и проверяли документы.
Ближе к Фридрихфельд людей было уже целое море — мне показалось, не меньше ста тысяч. Семьи держались плотными группками; у меня защемило сердце, когда я увидела молодую мать, которая дыханием согревала замерзшие ручонки своему крохе. Я крепко сжимала поводья; Ярый ступал, высоко поднимая ноги, подковы звонко цокали, люди торопились дать нам дорогу.
И вот наконец парад. Строем шли тридцать тысяч солдат: сначала пехота, затем кавалерия, потом конная артиллерия. Прусские военные мундиры — черные с малиновым и золотым — виднелись всюду, насколько хватало глаз. Толпа неистовствовала, приветственные крики не смолкали. Неожиданно наперерез идущим полкам выехали двое верховых; опередив их, со всех ног помчалась стайка орущих мальчишек. Безупречный строй нарушился, ряды марширующих солдат искривились, затем порвались. Взволнованная толпа напирала, полиция пыталась ее сдержать.
На поле для королевских особ была построена специальная платформа; рядом с ней находились прочие знатные гости, и всю эту территорию окружала плотная цепь полицейских. Я двинулась вокруг, внимательно присматриваясь. Сквозь заградительную цепь уже начали пробиваться отдельные всадники и экипажи. Прусский офицер с седыми бакенбардами махал плетью, стараясь удержать народ на расстоянии от знати. Грохнул артиллерийский салют, и я, словно это был особый знак, двинула Ярого прямиком к королевской платформе. Мы миновали полицейских, пройдя сквозь цепь, как нож сквозь масло. Высматривая знакомое лицо, я лавировала среди высшей знати, словно здесь было мое законное место. Внезапно меня нагнал тот офицер с седыми бакенбардами и крепко ухватил уздечку Ярого. Я напряглась всем телом.

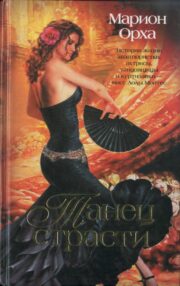
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.