Я подержала брошь на ладони. Как долго живут бабочки? Несколько дней, недель? Понятия не имею. Я печально улыбнулась. Когда-то я воображала, будто наша с Джорджем любовь продлится вечно. В своей бесконечной наивности я мечтала, что мы поженимся и проведем вместе всю жизнь. В то счастливое время я отдавала себя бесплатно. А теперь бесплатно ничего не будет, все имеет собственную цену. Я хорошо усвоила: сильная любовь горит ярко, но быстро гаснет. И Эллен права, надо быть практичной. Снова завернув брошь в шелковый лоскут, я сунула ее в шкатулку, на самое дно. Объятия графа Мальмсбери не приносят мне радости, зато граф оплачивает мои счета.
Каждый день, с пылом новообращенного, я приезжала в студию сеньора Эспы. Там, на скрипучих досках в комнате с зеркалами, я под руководством пламенного испанца избавлялась от лишнего, наносного, от шелухи воспитания, оков цивилизации. День ото дня я понемногу становилась сама собой. Сеньор Эспа старался очистить каждое чувство, выражаемое в танце, обнажить его до природной основы. То, что приводило в смятение мисс Келли, — моя излишняя театральность, переигрывание — внезапно обрело смысл. Все, что мне до сих пор приходилось в себе сдерживать, было отпущено на свободу. В танце я могла быть порывистой, непокорной, печальной, трагичной. Даже индийские танцы моего детства и те пригодились. Когда сеньор Эспа начал учить меня волнообразным движениям кистей рук и пальцев, я немало его удивила гибкостью запястий.
Постигая испанскую танцевальную науку, я сделала неожиданное открытие: оказывается, известные мне танцы — хоть бледные, но все же подобия испанских.
— Прежние знания надо отбросить, — наставлял сеньор Эспа. — Мы с вами должны начать все с самого начала. El Baile d'Espana — испанский танец — отнюдь не вежливый и утонченный, он дик и стихиен. Вне стен моей студии можете изображать что хотите. Но пока вы здесь, будете изучать его исходную форму.
Спустя четыре месяца ежедневных занятий сеньор Эспа посоветовал мне отправиться в Испанию.
— Это поможет обрести большую выразительность. Я научил вас основам — и больше ничем помочь не могу.
В конце лета я узнала, что лейтенанта Ленокса привлекли к суду. Я гнала от себя мысли о предстоящем разводе с Томасом, но больше не думать об этом было нельзя. Томас предъявил иск Джорджу, и суд рассматривал дело о прелюбодеянии.
— Бедный Джордж, — вздохнула я.
— Бедная вы, — поправила Эллен. — В суде-то будут трепать ваше имя, не чье-нибудь.
Если я останусь в Лондоне, скандал неминуем. Газеты будут обсасывать подробности, в обществе пойдут пересуды. Меня назовут прелюбодейкой, разведенкой, а то и еще как-нибудь похлеще. От образа уважаемой дамы ничего не останется — я останусь одна-одинешенька, без поддержки и средств к существованию. И поскольку назначенная дата суда неотвратимо приближалась, я решила исчезнуть.
Все подготовив, я обговорила последние подробности с Эллен и графом. Тайком навестила ювелира и в последний раз приехала в студию сеньора Эспы. За месяцы, прошедшие в неустанных сражениях за правильные движения и экспрессию, я очень к нему привязалась.
Услышав, что я еду-таки в Испанию, сеньор Эспа прижал руку к груди, а затем велел мне поклясться, что я сохраню тайну, которую он готов открыть.
— Nina[29],— проговорил он, — я вам признаюсь.
— В чем?
— Обещайте, что не станете надо мной смеяться.
— Даю слово.
— Какой я национальности? — огорошил сеньор Эспа неожиданным вопросом.
— Конечно же, испанец, — ответила я с полной уверенностью.
Однако он покачал головой:
— Во мне нет ни капли испанской крови.
Я была потрясена.
— Как же так?
Он стукнул себя кулаком по груди:
— У меня сердце испанца. Вы скоро поймете.
И тут выяснилось, что сеньор Эспа — сын портного из беднейшего лондонского квартала. В двенадцать лет он влюбился в испанскую танцовщицу в театре, в пятнадцать уехал в Испанию.
Когда я прощалась, у него по щеке скатилась слеза. Мы обнялись, и сеньор Эспа расцеловал меня в обе щеки.
— Так принято в Испании, — пояснил он со слабой печальной улыбкой.
Глава 20
Испания показалась мне волшебной страной. В горячем воздухе разливался аромат жасмина, во дворе пенились заросли джакаранды[30], полыхали цветы олеандра, вечернее солнце ласкало медовыми лучами высохшие от зноя поля. В Кордове мы с Эллен видели, как по улицам несли кровоточащую статую мадонны. В Севилье нам довелось ночевать в древнем палаццо. А в Кадисе я увидела куст гибискуса с осыпавшейся листвой и одним-единственным красным цветком. Он напомнил мне об Индии, и я долго глядела на него с горьким наслаждением. Сверху, из крошечного оконца в стене древней башни, на меня смотрела женщина в черной накидке.
В узеньких извилистых улочках Гранады к небу плыли самые разные звуки: трели канарейки в клетке, звон гитарных струн, низкий горловой плач, озорной детский смех. Женщины в открытых дверных проемах прятали под мантильями лица; мужчины в шелестящих плащах слонялись без дела, стояли под статуями мадонны с видом важным и самодовольным.
Порой на улицах я видела испанских damas — женщин, исполненных природной величавости, в богато расшитых шалях, с высокими гребнями из слоновой кости в волосах. Кружевные мантильи на голове, смоляные кудри, кожа белее алебастра, губы ярко накрашены красным.
Мы с Эллен, сидя в кофейне, наблюдали, как эти damas шествуют мимо, свободные и неприступные, как королевы. Порой к даме подходил мужчина, и тогда она кланялась и брала его под руку либо уезжала с ним в красивом экипаже. Я внимательно присматривалась к тому, как они себя держат и с каким вкусом одеваются; вскоре я тоже приобрела гордую манеру держаться и пышную юбку.
Я с радостью сказала бы, если б могла: я отлично знала, что делаю, у меня был план, который я успешно воплощала в жизнь. Но нет: сделав один слепой шаг, я делала вслепую второй, затем третий. Утром училась танцам, днем изучала испанский язык. Вечерами наблюдала за людьми в кофейнях и на улицах. Я не думала о прошлом, не размышляла над будущим. Как истинная испанка, я жила настоящим, вкушая его сполна.
Эллен стала моей неизменной спутницей. Я слишком устала от мужчин, чтобы подыскивать себе в Испании достойного кавалера, однако появиться на людях в одиночестве было немыслимо — я тут же привлекла бы нежелательное внимание. А в сопровождении Эллен я могла отправляться куда заблагорассудится и делать что душе угодно. В одном из моих старых платьев Эллен легко могла сойти за настоящую леди. Вот только если открывала рот, она себя выдавала. Поэтому я ей строго-настрого запретила разговаривать с незнакомцами: если к нам подходил мужчина, она приветствовала его легким наклоном головы и не размыкала губ.
За совершенно ничтожную плату мы поселились в некогда роскошных покоях, в прошлом принадлежавших арабскому вельможе. Каждый день служанка по имени Долорес приносила букет цветов или фрукты — гранаты, хурму, инжир.
— Это от finca[31],— говорила она.
Долорес была миловидной смуглянкой, улыбчивой и жизнерадостной. А ее имя, поведала она, осеняя себя крестом, означало «скорбь Мадонны».
Однажды я в гостиной разучивала фанданго, когда Долорес принесла букет желтых лилий. Фанданго мне никак не давалось: сколько раз я ни повторяла танец, каждый раз запиналась на одних и тех же движениях. Долорес поставила лилии на стол, прикрыла глаза и вдруг с поразительной легкостью исполнила не дающуюся мне часть танца. Под конец она громко стукнула каблуками и довольно улыбнулась.
— А я и не знала, что вы умеете танцевать, — проговорила я, удивленная.
Она повела плечами.
— Так ведь все умеют. Моя семья — gitano, мы — цыгане. Танец у нас в крови.
Я снова станцевала фанданго. Поинтересовалась:
— Что я делаю не так? Чего не хватает?
— Душу не вкладываете.
— Душу?
— Не подумайте, что я хочу вас обидеть, — поспешила объяснить Долорес. — Хотите, отведу вас к нашим? Тогда сами все увидите и поймете.
На следующей неделе мы с Долорес отправились; ее семья жила в пещерах Сакромонте. Долорес подала конверт, который я ей заблаговременно вручила, одной из старых цыганок; старуха тщательно изучила содержимое, затем кивнула мне, разрешая остаться. Остальные на меня почти не обращали внимания. В очаге был разведен огонь, по стенам плясали тени, а десятка полтора цыган праздновали: младший брат Долорес в тот день принял причастие. Стол был уставлен остатками праздничной трапезы; с криками носилась ребятня, взрослые сидели в центре пещеры. На ноги поднялся очень толстый человек с огромными усами; мгновенно стало тихо. Молодой парень отстучал простой ритм, и толстяк запел. Голос у него был грубый, песня больше напоминала стон, крик боли, дикий вопль, вой дикого зверя. Однако он пел с таким чувством, что у меня защемило сердце. Слушатели начали хлопать в ладоши и топать, отбивая ритм, а певец самозабвенно пел и пел. И вот уже все вокруг, даже малышня, хлопали и топали, словно вызывая какого-то своего, темного бога.
Песня закончилась, с места поднялась дородная немолодая женщина с рябым лицом.
— Кармен, Кармен! — раздались голоса.
— Es те tia, моя тетка, — пояснила Долорес. — Наблюдайте как следует.
Цыгане хлопали, одни кричали, другие отбивали ритм маленькими палочками. Кармен стояла среди них, одну руку уперев в бок, в другой сжимая большой лакированный веер. Затем тоже начала отбивать ритм каблуком.
Будь мы в Англии, толстуха Кармен показалась бы зрителям смешной и нелепой. Здесь же ее воспринимали всерьез и с нетерпением ждали танца. Ее полное тело было обтянуто пронзительно-красным платьем, толстые пальцы унизаны золотыми кольцами тонкой работы, лицо обрамляли черные кудри. Зашелестев юбками, Кармен сделала несколько плавных шагов, отмахиваясь веером, словно желая утихомирить расшумевшихся зрителей. Долорес прошлась перед ней в кратком танце, точно поддразнивая тетку собственной молодостью и красотой.

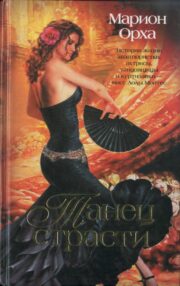
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.