Я представила его улыбку, тонкие усики, светлые бакенбарды. Я хорошо помнила, как он подбрасывал меня в воздух, ловил и кружил. Мне было тогда года три-четыре. Будь он жив, он бы не гнал меня замуж за старого судью. Он бы желал мне счастья, в этом я была совершенно уверена.
Надев кольцо, я вытянула руку, восхищаясь его красотой. Если бы мама больше любила отца, кто знает — быть может, он бы не умер так рано. Ей бы надо по-прежнему его любить и дорожить его памятью, а не стараться унизить человека, который уже не в силах защититься. В эту самую минуту я решила, что мамин удалой кавалер будет мой. Если он хорош для нее, сгодится и для меня. А она пусть забирает себе судью, коли ей так нужна эта свадьба.
В последний вечер, проведенный в Бате, я завернула кольцо с красным камнем в вышитый платок, подаренный Софией, а затем — в отрез голубого тюля. Сколько бы мама ни твердила, что кольцо ничего не стоит, мне оно всегда будет дорого. Как она может быть такой циничной? Наверное, ее ожесточило разочарование. А возможно, она мне просто солгала, в последней отчаянной попытке добиться согласия на брак с судьей. Даже если кольцо менее ценное, чем ей когда-то представлялось, это не может быть просто цветная стекляшка. Закрыв крышку индийского сундучка, я поклялась себе, что никогда в жизни не стану такой жестокосердной, бесчувственной, расчетливой, как мать. Что бы ни случилось, я не буду походить на нее ни мыслью, ни словом, ни поступком. Ни жестом, ни взглядом, ни вздохом.
Глава 9
Укладывать мне было почти нечего — несколько безделушек, сшитый из шелковых лоскутков платок, полинявший и порванный, отрез голубого тюля — память о Софии. Свои простенькие школьные платья, из которых давно выросла, я оставила на вешалках в шкафу. Сундук с приданым был уже вынесен из маминой спальни в прихожую, где вместе с тремя другими ожидал отправки в Индию. Я осторожно заглянула к маме. Она крепко спала, с черной шелковой маской на глазах. Ее темные волосы были аккуратно уложены на подушке. Прощальное письмо ей я писать не стала; она и так скоро узнает. Ни на единый миг я не усомнилась, что лейтенант за мной приедет. И в самом деле, ровно в три часа утра под окнами раздался стук конских копыт.
За дверью я огляделась в последний раз. Весь мир спал. Даже цветы на деревьях закрылись, сонно сомкнули лепестки.
В карете лейтенант привлек меня к себе, крепко обнял, укутал пледом. Мне было уютно и тепло, и пока что этого казалось достаточно. Сзади к карете был пристегнут ремнями сундук с приданым, которое не пригодилось для свадьбы с судьей; у ног стоял маленький индийский сундучок. Все остальное я с радостью оставила в прошлом.
Голова моя была забита романтическим вздором, сказками о разбойниках и влюбленных. Лейтенант мне виделся гордым изгнанником, которого не поняли и не оценили на родине; я была невинная дева, которую похитили под покровом ночи. Его любовь была простой, первобытной и яростной. Он завернул меня в собственный плащ, и кони понесли карету прочь.
Они мчали сквозь ночь, пока не начали спотыкаться от усталости. Огромная распухшая луна отражалась в темных окнах домов, поблескивала в лужах, вела нас все дальше извилистыми дорогами. Любой звук: треск сломавшейся ветки, уханье филина, стук колес по камням — в ночной тишине казался громче обычного. Я слышала топот конских копыт, свист кнута, крик возницы. К утру кони уже едва переставляли ноги, и возница бесконечно подгонял их кнутом и бранью. Когда взошло солнце, Томас задернул занавески на окнах. Пригревшись в своем уютном коконе, я перестала думать о мире, что остался снаружи.
То и дело возница требовал дать коням отдых.
— Скоро уже, скоро, — отвечал Томас.
Быть может, он опасался, что я передумаю; а возможно, боялся бешеного гнева моей матери. Как бы то ни было, мы в кратчайшее время покрыли тридцать миль. Лишь под вечер Томас позволил ненадолго остановиться.
Уже сгустились теплые летние сумерки, когда мы подъехали к придорожной гостинице в предместье Бристоля. Возница был зол, кони чуть живы от усталости. На боках блестел пот, удила в пене, шкуры побелели от соли. Кони волновались, переступали ногами, пока помощник конюха не распряг и не увел их одного за другим. Возница вынес из кареты наши вещи, а из дверей гостиницы вышел толстяк в отвратительно грязном переднике и пожал Томасу руку. В дальнем углу двора мальчишка тихонько разговаривал с лошадьми, вытирая их пучками соломы.
Гостиница, где мы остановились, была древняя, со множеством крохотных комнатушек. Мужчинам пришлось нагнуть голову, чтобы пройти в дверь. Нас провели на второй этаж; номер состоял из двух смежных спален. На голых досках пола не лежало даже самого скромного коврика, над головой нависали толстые потолочные балки, тяжелая резная мебель была из темного дуба. В моей спальне горели две свечи, на стенах дрожали черные тени.
На ужин нам подали мясо, хлеб и темное крепкое вино. Хотя пища и удобства были скудны, Томас был ко мне чрезвычайно внимателен, а у меня голова шла кругом, и я ощущала себя очень взрослой. Мне было семнадцать лет; Томас в свои тридцать два был одного возраста с мамой. Наконец-то, думалось мне, снова есть отец, который обо мне позаботится. Смерть унесла первого, мама полностью присвоила второго, но уж третьего у меня никто не отнимет. Томас сидел за столом, и его голубые глаза ярко блестели. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя так уютно, надежно и безопасно.
Когда мы поужинали, хозяин гостиницы принес бутылку портвейна и два стакана. Из нескольких фраз я заключила, что Томас останавливался здесь и прежде. Мужчины пили вино, смех становился громким и грубым, и мне вовсе не нравилось, как хозяин смотрел на меня. Поднявшись из-за стола, я пожелала им обоим доброй ночи.
Дверь между нашими спальнями была тяжелая, и закрыть ее удалось с немалым трудом. Оставшись одна, я огляделась и поняла, что тут очень даже уютно. Сквозь толстую стену голоса из соседней комнаты едва пробивались. Надев ночную рубашку, я угнездилась на широкой кровати, сложив руки поверх одеял. И уже почти задремала, когда в голове закопошились неприятные мысли о маме.
Я представила, как она там одна в своем роскошном гостиничном номере. Обнаружив, что меня нет, она, разумеется, послала за Томасом, и ей сообщили, что он тоже исчез. Царапнуло легкое чувство вины. Наверное, все же стоило оставить записку. Однако я глянула на два сундука у стены, и сердце мое ожесточилось. Наверняка она больше сожалеет о пропавшем со мной белье, чем обо мне самой, решила я с обидой. Ее гордость пострадает, вот и все.
На столике рядом с кроватью затрепетал огонек свечи, и на стене выросла огромная тень. В комнате не было ни одного прямого угла. Над кроватью нависали темные потолочные балки. За окном в кронах деревьев шумел ветер, ревела вода в реке. Я могла быть где угодно — скажем, в лесной сторожке в заколдованном лесу, за много миль от людей. Я подумала о лейтенанте в соседней комнате и мечтательно улыбнулась. Обняла подушку, свернулась калачиком и крепко уснула.
Под утро меня разбудил скрип дверных петель. Дверь распахнулась и ударилась о стену. Я испуганно села на кровати. В дверном проеме, покачиваясь, стоял Томас Джеймс в расстегнутой рубашке, с красным лицом. В одной руке он держал лампу, в другой — полупустой стакан вина. Кроме рубашки, на нем ничего не было.
— Моя драгоценная детка, — проговорил он.
Я не могла оторвать взгляд от его вздымающейся к пупку плоти. Что я в то время знала о мужчинах, об их природе? В Индии я видела голых мальчишек, в Европе — мраморные статуи, вот и все. В обоих случаях символ мужественности был скромен и с легкостью мог быть укрыт от взглядов. Но то, чем обладал лейтенант, фиговым листком не прикроешь. «Господи! — подумала я. — И такое скрывается под брюками у каждого джентльмена?»
— Лейтенант… — начала я.
— Ты должна звать меня Томасом.
— Томас…
Больше ничего сказать я не успела: он навалился сверху, бешено меня целуя, разрывая ночную рубашку. Придавленная его весом, я не могла шевельнуться. Его мужская плоть прижималась к моему бедру, пульсировала, словно некое животное пыталось куда-то пробраться в темноте и искало путь.
Пришлось пойти на хитрость. Откинувшись на подушки, я глубоко вздохнула. Движения Томаса были замедленные, ум затуманен портвейном. Чуть только он ослабил хватку, я вывернулась из-под него и убежала в соседнюю комнату. В замке торчал ключ, я мигом его повернула, нырнула в постель и по шею закуталась в одеяла.
Из-за двери Томас принялся умолять:
— Милая, мой цветочек! Я не хотел тебя пугать. Ну же, мой ангел, открой дверь.
Сначала он пытался уговорить по-хорошему, затем прибегнул к угрозам:
— Я отошлю тебя назад! Матушка тебя ожидает. Прекрати этот вздор сейчас же, слышишь? Я требую, чтоб ты оперла дверь.
В ответ я твердила только:
— Я устала, хочу спать, мне нужно поспать хоть немного.
Вот скотина, думала я про себя. Он что, вообразил, будто мной можно пользоваться как какой-нибудь служанкой?
На следующее утро за завтраком Томас поначалу и слова не молвил. Соблюдать правила приличия досталось мне. А я твердо была убеждена, что хотя бы один из нас двоих должен оставаться цивилизованным человеком.
— Надеюсь, вы хорошо спали. Мне так хочется поскорее попасть в Ирландию. Я не бывала там с детства.
Томас сидел мрачный, молчал и ковырял вилкой в тарелке. Я едва-едва его умаслила, чтобы он вообще соизволил заговорить.
Пока мы ехали через графства Уэльса, три ночи подряд происходили одинаковые стычки. В Монмутшире, Гламоргане и Кармартеншире мне ночами не давал спать громкий стук в дверь.

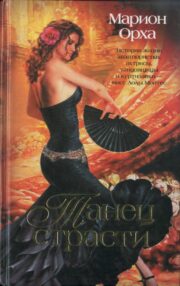
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.