Дневные занятия считались самыми важными. Старшая мисс Олдридж называла их «подготовкой к жизни», а любимым названием мисс Элизабет было «необходимые умения светской молодой леди». Мы учились танцевать и вышивать, ходить и говорить, изящно садиться и стоять. Мы играли на фортепьяно или рисовали чаши с фруктами, а мисс Элизабет нам торжественно повторяла свод волшебных правил:
— Молодая леди должна ходить ни слишком быстро, ни слишком медленно. Выражение лица должно быть скромным. Во время беседы нельзя слишком оживляться и говорить громко. Ни в коем случае нельзя бегать, хихикать или хмурить брови.
Где мисс Элизабет мечтательно вздыхала, там старшая сестра деловито сновала туда-сюда, шлепая ладонью по коленям, если кто вдруг скрестил ноги, или по сутулой спине.
— Осанку держать, осанку! — требовала она.
За окнами по площади тек нескончаемый поток красивых экипажей. Лишь мельком увидев людей внутри, мы с Софией придумывали целые романы. Однажды мы видели, как из сверкающей кареты буквально на руках выносили даму в кисейном платье абрикосового цвета, а встречающий ее молодой человек отвесил неторопливый насмешливый поклон. Мы представляли себе балы и тайные свидания, огромный, насыщенный событиями, кружащий голову мир, который однажды подхватит нас обеих и унесет из школы. Две мисс Олдридж являли собой суровое предостережение: такое же выйдет и из нас, если мы потерпим неудачу. Мы усердно трудились над тем, как скромно улыбаться. София учила меня падать в обморок, а я ее — танцевать менуэт.
— Не напрягайся, — повторяла я, — научись таять и течь водой.
Каждый день я по несколько часов честно носила свой корсет. Постепенно я научилась в нем ходить, затем садиться, а потом и вставать из кресла. Понемногу мне удалось научиться в нем кланяться и наконец — танцевать, не морщась и не стискивая зубы.
Единственным мужчиной в нашей школе был учитель латыни мистер Хамфри Квилл. Юный мистер Квилл, как называли его мисс Олдридж, был худощавый белокурый человек с бесцветными водянистыми глазами, к тому же заика. Заикаться он переставал, когда говорил о латыни или Бате времен римского владычества. Декламируя стихи, он размахивал руками, а на щеках проступал румянец. Порой он даже дрожал от волнения.
— А вот скажите, пожалуйста, мистер Квилл, — бывало, поддразнивала София, — в каких выражениях следует говорить о романтической привязанности?
— Латынь, — отвечал учитель, — это язык богов. Нет места лучше, чем Бат, город римлян, где можно изучать язык любви.
С мистером Квиллом мы отправились на свою первую большую экскурсию по городу. Мы шли по улицам парами, похожие на выводок болтливых утят, хором спрягая латинские глаголы. Мистер Квилл требовал спряжение глагола regere, а мы упорно переходили на amare.
Мистер Квилл вел нас, рассказывая наиболее поучительные истории про Бат, а мы продолжали спрягать глаголы в разных временах: будущее простое, прошедшее несовершенное, прошедшее совершенное, будущее совершенное. Когда добрались до форм давнопрошедшего времени, мы уже спустились с холма и шагали мимо знаменитого аббатства.
Потом мистер Квилл неохотно, уступая нашим просьбам, позволил пройти в бювет — зал для питья минеральной воды. За двустворчатой дверью оказался просторный зал с коринфскими колоннами и лепными фронтонами. Свет лился сквозь многочисленные овальные окна; откуда-то доносилась камерная музыка. Модно одетые дамы прогуливались под руку, господа сидели в креслах у столов, читая газеты. Выпрямившись во весь рост, я вздохнула, внезапно ощутив себя счастливой. София взвизгнула в восторге.
Мистер Квилл направился прямиком к насосу и быстро построил нас в очередь.
— Конечно, лишь католики и дикари верят в святую воду. Здесь вы пьете минеральную воду на совершенно научных основаниях. Полагаю, что особенно полезен содержащийся в ней магний.
Учитель превозносил благотворные свойства воды, а мы слушали и цедили ее из стаканов. Сквозь окно я углядела Королевскую ванную. Стены были выкрашены в терракотовый цвет, пенящаяся вода была молочно-зеленой. По ступенькам спускалась, опираясь на двух служанок, пожилая дородная дама; ее коричневый купальный костюм поднимался в воде колоколом. Позади нее кружил толстый, мрачного вида господин, и с каждым кругом лицо у него краснело все гуще.
Я дернула Софию за рукав; глядя на это зрелище, она хихикнула. Мистер Квилл пришел в смятение и попытался загородить от нас окно.
От перечисления свойств воды наш учитель быстро перешел к рассказу о древних римлянах. К тому времени, когда мы осушили стаканы до дна, он с пылом вещал:
— Прямо под этим залом находится храм богини Минервы.
Казалось, под цивилизованной поверхностью в Бате билось древнее языческое сердце. Там, где мы сейчас культурно цедили минеральную воду, когда-то в горячие бассейны погружались обнаженные римляне. Мистер Квилл рассказал, что в храме сидели писцы, которые записывали пожелания достопочтенных жителей Бата.
— Вообразите сотни таких пожеланий, — вздохнул он. — В них заворачивали монетки и кидали в воду, и они опускались на дно бассейна. Воздух был напоен благовониями, и запах сандалового дерева смешивался с клубами пара и дыма.
Бат, с его модными домами и оживленными улицами, начал казаться мне красивым задником какой-то изящной, возвышенной пьесы. Во время ежедневных прогулок нам удавалось лишь мельком увидеть крошечные отрывки из спектакля. Мне исполнилось тринадцать лет, затем четырнадцать; казалось, мы навечно останемся за кулисами. Наши учителя зорко следили за нами, словно от чужих взглядов мы могли заразиться какой-то болезнью или покрыться синяками. На Чип-стрит чумазые крикливые девчонки вроде бы продавали цветы; когда появлялась полиция, они подхватывали свои рваные юбки и удирали со всех ног. А возле бювета торговала крошечными букетиками фиалок девчушка лет десяти с худым изможденным личиком, синим носом и слезящимися глазами. У нее лишь голос был мощный, не в пример чахлому тельцу. Если я смотрела на нее слишком долго, она высовывала язык. Однажды я видела, как ее поманил какой-то господин в сюртуке, и они вдвоем удалились в ближайший переулок.
В нашей школе дочери аристократов являлись естественной элитой. Ниже стояли дети членов парламента и нетитулованного мелкопоместного дворянства. Еще на ступень ниже располагались дочки крупных военачальников. Я же была всего лишь падчерицей капитана. С самого начала, как только я появилась в школе и мое скромное положение было выяснено, ко мне относились свысока, как к дальней родственнице из глухой деревни. Однако не прошло и года, как отчима повысили в звании, а моя способность к танцам была замечена и должным образом оценена. Мои акции выросли, откровенного пренебрежения стало меньше. По понятным причинам, я умолчала о своих ирландских корнях, но затем из Корка прибыла Амелия Сеймур, и с ней и новые проблемы.
Амелия была дочерью помещика и наивно полагала, что ее место — на самой верхушке нашей неофициальной лестницы. Она не только с ходу выложила все про свои собственные родственные связи, она к тому же знала про мои. И не поленилась поведать о них всем и каждому, отчего мое положение в школьном кругу мгновенно ухудшилось. С точки зрения остальных девочек, те, в чьих жилах текла смешанная англо-ирландская кровь, были не просто дальней родней, а такой, которой лучше бы не было вовсе. Защищаясь, я доказывала, что мы — не чистокровные ирландцы, которые говорят со своим ярким провинциальным акцентом, перебирают четки и к тому же заядлые драчуны. Амелия пускала в ход иной аргумент: дескать, она из семьи власть имущих, из правящей элиты. В течение нескольких дней она упрочила собственное шаткое положение тем, что топтала меня.
— Я слышала, что твоя мать была простой модисткой, — насмехалась она.
— Мой дед — сэр Чарльз Сильвер Оливер, — возражала я.
— Зато твоя бабка — шлюха! — хохотала Амелия.
К счастью, София осталась моей подругой. Моя милая София была незаконнорожденной дочерью герцога и, таким образом, была одновременно выше и ниже нас всех.
Мы с Софией давали друг другу обещания и заключали договоры. На клочках бумаги мы записывали свои желания в надежде, что они сбудутся. Затягивая корсеты все туже, мы молились о том, чтобы талии становились тоньше. Тем временем наши девчоночьи тела начали меняться — у Софии налилась грудь, потом и у меня тоже. В потайных местах выросли темные волосы, а хозяйка бельевой снабдила меня специальными подушечками из сложенного в несколько слоев полотна, набитого ватой и прошитого.
Мы с Софией перепробовали все новые модные фасоны и стили; я шила наряды из муслина, она — из шелка. Узнав, что в Париже дамы смачивают лиф платья, чтобы тонкая ткань облепляла грудь, мы сделали то же самое. Результат оказался печален — в мокром виде мы выглядели просто-напросто неопрятно. Вот уже исполнилось пятнадцать лет, потом шестнадцать — а мы все изучали правила этикета и латинскую грамматику, мечтая о балах, роскошных платьях и о безграничной любви.
Однажды во время прогулки я заметила парня, который стоял, ничего не делая, на углу. Он явно был из низов, с копной черных волос и наглым взглядом. Меня передернуло, когда я обратила внимание на его заскорузлые пальцы с грязными ногтями. Я глянула ему в лицо, ожидая, что он почтительно опустит глаза. Как бы не так — он смотрел прямо, а потом хищно усмехнулся. Когда мы проходили мимо, я прямо-таки кожей чувствовала его взгляд на своей открытой шее. В ту ночь я долго лежала без сна и думала о нем, взволнованная и смятенная.
Когда приблизилось мое шестнадцатилетие, вдруг начали приходить письма от матери. Написанные детским почерком, они были довольно-таки высокопарные и, по сравнению с теми редкими записочками, что она присылала раньше, весьма многословные. «Как ты поживаешь, дочка? — писала она. — Мы с огромным нетерпением ожидаем, когда ты вернешься домой». А отчим, чьи письма стали приходить реже и сделались менее личными и доверительными, стал обращаться ко мне «юная леди». Закрывая глаза, я пыталась мысленно представить лицо матери, но это оказалось почти невозможно: я как будто глядела сквозь воду или толстое кривое стекло, которое безнадежно искажало ее черты. В письмах мать называла меня «дорогая» и «милочка», и я пыталась отвечать тем же. Чувствуя, что она от меня чего-то хочет или ждет, я ломала голову: что же ей нужно?

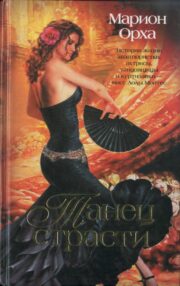
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.