Чон писал тексты для своего ансамбля «Старая легенда», днем репетировал, вечера проводил в доме своей невесты Светланы, родители которой были средней руки коммерсанты. В доме невесты рано укладывались спать, и от нее Чон шагал к Ибрагиму или другим своим друзьям-художникам, смотрел новые картины, помогал изготавливать подрамники, отбирал лучшие работы друзей для выставки, участвовал в организации этих выставок. Словом, все считали его порядочным и бескорыстным человеком, веселым и обаятельным парнем.
Женившись на Светлане, Чон перебрался в просторный дом тестя, выходивший окнами на центральный рынок. Дом ему нравился, нравился его прочный, неторопливый уклад, приверженность новых родичей к традициям, хотя теща была хохлушкой, а не черкешенкой, нравилось вместе с женой петь для тестя его любимую песню «Адиф», слушая которую тот неизменно промокал глаза носовым платком, нравилось тянуть скорбный припев этой песни «Ело-ва, е-ло-ва…». И Чон почти не обращал внимания на свою двенадцатилетнюю свояченицу, девочку с резкими, страстными чертами тонкого лица, очень похожую на его жену, но вместе с тем совершенно другую.
Зара занималась спортивной гимнастикой и даже ездила на областные соревнования. В упражнении на брусьях девушке не было равной, ей присудили высокий балл, но, сорвавшись с бревна, она не получила никакого места и вернулась домой раздосадованная, вся в слезах.
Чон со Светой жили исключительно дружно, ее родители относились к нему как к родному. Чона все больше и больше привлекала живопись; бывая вместе с «Легендой» на гастролях в разных городах и весях региона, он перезнакомился с многими художниками, а потом стал совершать набеги на Москву, на Малую Грузинскую и в другие места, где можно было посмотреть приличные картины.
Света ничего против его увлечения живописью не имела.
Все шло хорошо, как вдруг Чон стал ощущать какое-то смутное беспокойство: за ним постоянно следили внимательные и как будто чего-то от него ожидающие глаза Зары.
Чон стал замечать, что девочка так и норовила как можно чаще попадаться ему на глаза: то просила поиграть ей на пианино, чтобы она смогла размяться под музыку, то навязывалась вместе с ним в гости к художникам под предлогом, что ей необходимо знакомство с искусством, как человеку также в какой-то степени творческому.
Чон не мог понять, в чем дело, пока тот же Шалахов не раскрыл ему глаза:
— Эта малютка по уши влюблена в тебя.
— Да ну! Она еще школьница! Ей четырнадцать лет только-только стукнуло!
— Вот именно, четырнадцать. Берегись этой маленькой Карменситы, — многозначительно добавил Ибрагим.
Теперь Чон совершенно другими глазами стал смотреть на девочку.
Он жалел ее, тоненькую, молчаливую сестренку. Девочки в ее возрасте вечно вбивают себе в голову любовь к взрослым мужчинам, начинают донимать их своим преследованием. Чон решил быть настороже и держаться с малышкой совсем по-братски. Но когда он специально в ее присутствии обнимал и целовал свою жену, девочка смотрела на него с таким выражением лица, что ему становилось не по себе. Она точно хотела сказать: подожди еще немного, самую чуточку, дай мне подрасти, а там — посмотрим!..
Это становилось все более и более тягостным для Чона, но тут случилась беда: во время занятий Зара получила травму — и ее на целый год увезли в Москву, где сначала она лечилась в клинике, а потом — в санатории.
Чон жалел малышку, каждую неделю вместе с тестем отвозил к поезду очередную посылку с фруктами и орехами для Зары, передавал ей приветы, когда сочинялось общее послание девушке в уютном семейном кругу, старался придумать для нее что-то забавное, веселое. А в общем — выбросил ее из головы.
За год отсутствия Зары он вырос как художник, стал принимать участие в выставках. Технике живописи Чон учился в основном у Шалахова, который хотя и сильно пристрастился к выпивке за последнее время, но уже сделался общепризнанным художником: его работы покупали в Москве, московские живописцы ценили Ибрагима и звали его в столицу. Но Шалахов не хотел оставлять в Майкопе мать, и мечта его о Москве как бы по наследству перешла к Чону.
Ему вдруг сделалось тесно в этом городке.
Он чувствовал, что задыхается в нем.
Чона уже не интересовала музыка, и последние годы в Майкопе он жил в основном на содержании тестя, который не слишком верил в Павла как в художника, но ценил его как хорошего, порядочного мужа своей старшей дочери.
Тут вернулась из Москвы Зара.
Когда Чон снова после продолжительной разлуки с «сестренкой» увидел ее, он буквально остолбенел.
За год она выросла, вытянулась, определилась как юная женщина со своей женской повадкой, со своей победоносной, оригинальной красотой.
Чон был смущен, увидев ее. Он подал Заре руку, но она спрятала свои руки за спину и подставила ему щеку.
Чон не впервые целовал свояченицу, но сейчас, коснувшись губами ее бархатистой щеки, почувствовал еще большее смущение.
Он боялся, что эта новая, повзрослевшая Зара снова станет преследовать его.
Но вначале она даже не смотрела в его сторону.
И в то же время Чон ощущал, что постоянно находится в поле ее внимания.
Она как будто играла с ним в какую-то новую, опасную игру. Она незаметно для посторонних глаз, для глаз своих родителей и сестры, донимала его.
Зара уходила в школу, когда Света и Чон еще спали, а возвращалась, когда Светы уже не было. Она надменно, не глядя на Павла, приветствовала его кивком, как будто была на него за что-то в обиде и своим поведением провоцировала на объяснение с нею.
Однажды, когда за ужином собралась вся семья, он вдруг заметил, что она, как в зеркале, повторяла все его движения: он поднимал бокал с напитком шиповника, и она подносила свой бокал к губам, он тянулся вилкой к маринованным грибам, и она накалывала на свою вилку гриб, он брал кусок хлеба, и она делала то же самое, он промокал губы салфеткой, и она вытирала рот, он поднимался из-за стола, — и она тут же вставала… При этом ресницы Зары были опущены вниз, ему не удавалось поймать ее взгляд.
…Дальше — больше.
…Он хотел снять с вешалки дубленку и выйти из дому и тут заметил, что поверх его одежды висит Зарина кроличья шубка; Чон брал ее в руки, как живое существо, и его обдавало ароматом дорогих, тонких духов — Светлана не пользовалась такими, ее претензии к подобным вещам были невелики, она не была кокеткой…
…Чон работал у себя в комнате, делал эскизы к будущей картине и слышал, как Зара в проходной комнате начинала репетировать танец с лентой, включала магнитофон, из которого лился «Экспромт» Шуберта, — он слышал ее легкие шаги, прыжки, перелеты из одного угла комнаты в другой, и ему казалось, лента обвивалась вокруг его шеи…
…Он приносил Светлане гвоздики, и жена, чмокнув Чона в щеку, ставила их в вазу. Зара, делая свои арабески, вдруг смахивала рукою вазу с тумбочки… Странная неуклюжесть со стороны такого грациозного и точного в движениях существа, как Зара. Она заливисто смеялась над своей неловкостью, а Чон принужденно усмехался.
Он постоянно натыкался на ее вещицы: раскрытую коробочку с тальком на подоконнике, заколку, которой Зара схватывала свои каштановые с ореховым отливом волосы, тетрадку по физике, из которой вдруг выпадала промокашка, вдоль и поперек исписанная его именем — он так думал, что его именем, хотя это просто был адрес клиники, где когда-то лечилась Зара, — «Чонгарский бульвар, Чонгарский бульвар, Чонгарский бульвар…». И Чону приходилось все это закрывать, подбирать, класть на место, подальше, с глаз долой!..
Наконец, Света с изумлением показала Чону свое новое кожаное пальто, которое он недавно купил ей на свой первый гонорар от проданной картины, — вся спина была изрезана бритвой… «Наверное, в троллейбусе порезали завистливые люди», — огорчилась Света, но Чон успел заметить мстительную усмешку на губах Зары.
…Дождавшись вечером, когда жена ушла в ванную, — Света любила плескаться долго-долго, — Чон обратился к Заре:
— Это сделала ты?
— Что? — Зара, склонившись над тетрадью, даже высунула кончик языка от усердия, строчила сочинение и даже не смотрела на Чона.
— Ты испортила Свете пальто?
— Что? — Зара даже не подняла головы.
— Ты испортила Свете пальто?
— Ага, — равнодушно, точно Чон спросил, не брала ли она телевизионную программку, отвечала Зара, и у него дух перехватило от этой открытой наглости, от сознания девушкой какой-то своей власти над ним и уверенности, что он не станет поднимать шум.
Чон подавил в себе желание схватить ее и хорошенько встряхнуть.
— Зачем?!
— Как пишется слово «интеллигент»? — спросила Зара. — Два «л» или одно?
Чон смел со стола ее тетради, выхватил из рук учебник.
— Я спросил: зачем?!
— Безвкусная вещь, — потягиваясь всем телом, нахально отвечала Зара. — К тому же кожаное пальто моей сестре не идет. Она слегка полновата для него…
И наклонилась, чтобы поднять с пола свои тетрадки.
Непременно следовало пойти и пожаловаться на нее отцу, но Чон отчего-то не сделал этого.
Прошло какое-то время, он явился в гости к Шалахову — и увидел у него на мольберте портрет Зары.
Ибрагим был смущен, у него даже лысина вспотела, он не знал, что сказать, не смотрел в глаза. Да, девушка иногда навещала его, приносила фрукты, цветы; его, Ибрагима, это трогало, пожилой художник не был избалован вниманием женского пола… К тому же у девушки такое необычное лицо, что он не смог удержаться от искушения и попросил ее попозировать ему… Чон предвидел, к чему могут привести подобные сеансы: Шалахов хоть и гениальный художник, но наивен, как дитя, влюбчив, как студентка, девушка может веревки из него вить… Наконец, мысль о том, что его друг, который гораздо талантливее самого Чона, может прельстить Зару, выводила его из себя, он готов был измутузить ни в чем не повинного Ибрагима, своего друга, учителя…

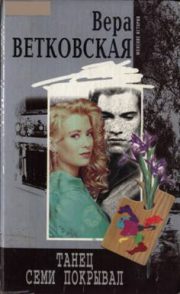
"Танец семи покрывал" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец семи покрывал". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец семи покрывал" друзьям в соцсетях.