ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ.
Большие карие глаза двенадцатилетнего Мойше с восхищением следили, как его отец, рассыпая паяльной лампой рой искр, превращает бесформенные куски железа в новую скульптуру, постепенно обретающую плоть.
Итальянцы из охраны лагеря ценили его мастерство, немцы были к нему безразличны. В обмен на маленькие статуэтки итальянцы по окончании рабочего дня пускали его в слесарную мастерскую. Сейчас из обрезков жести, металлической стружки и прочего лома он делал маленького мальчика с тачкой. Тонкие завитки стружки удивительно напоминали крутые кудри Мойше.
Горелка освещала резкие морщины на изможденном лице мастера, густую проседь в волнистых волосах — еще год назад, когда его с семьей пригнали сюда, седины не было и в помине, а теперь только борода оставалась черной как смоль. Он был высок ростом и крепок — могучие мускулы вздувались под рубахой, когда он приподнимал и придвигал ближе к переносному горну тяжеленные куски железа. Это потом он вдруг как-то сразу весь высох, стал словно меньше ростом и слабее, потерял свою прежнюю бодрость. И все кашлял, кашлял беспрестанно.
Мойше сидел, пристроившись на подоконнике полуподвальной мастерской, и как раз на уровне его головы проходила дорога из гравия на лагерный плац, где ежедневно казнили заключенных. Отсюда ему не были видны ни «стенка», сплошь покрытая выбоинами от пуль, ни длинный деревянный желоб для стока крови, ни вагонетки, на которых трупы свозили в крематорий. Но винтовочные залпы и крики умирающих он слышал — их не могла заглушить беспрестанно гремящая медь духового оркестра.
Прижавшись щекой к стальным прутьям, он смотрел на мелькающие высокие, начищенные до блеска сапоги эсэсовцев, пыльные башмаки итальянских солдат, рваные опорки заключенных и вспоминал, как задорно стучали по булыжнику деревянные подошвы, когда его сестра Рахиль спешила в хлев. Это было первое, что слышал он, проснувшись утром.
На крытой соломой крыше хлева была укреплена фигура аиста. Отец давно смастерил эту птицу, стоящую на одной ноге с расправленными крыльями, и говорил Мойше, что когда ему исполнится тринадцать и он, пройдя обряд бар-мицвы, станет совершеннолетним, аист улетит.
Мойше надеялся, что аист не улетел, и хлев стоит как стоял. А что же со всеми остальными поделками отца?
Приходя домой после работы в поле, отец до глубокой ночи занимался своими статуями. Мойше, тайком прокрадываясь в мастерскую, как зачарованный, следил за тем, что он делает, и только удивлялся, почему у отца при этом всегда такое горестное лицо. «Близко не подходи — обожжешься», — всегда предостерегал он сына. Ацетиленовая горелка выбрасывала длинный язык белого пламени, во тьме сыпались искры.
«Почему, — недоумевал Мойше, — почему он такой печальный? Ведь он занимается своим любимым делом». Иногда отец бормотал молитву по-древнееврейски, и по щекам его катились слезы. Может, ему не нравится то, что получилось? Может, он просит у Бога помощи? Мойше не знал. Но при виде плачущего отца сердце у него сжималось.
Скульптуры стояли по всему двору. Хрупкий Давид пригнулся, готовясь метнуть камень из пращи в огромного Голиафа, прикрывающегося круглым щитом и нацелившего длинное острое копье в своего юного противника. Мойше часами ждал, когда же наконец из пращи вылетит смертоносный камень, и нисколько не удивился бы, увидев однажды утром, что Голиаф повержен в прах у ног Давида.
А широкие деревянные ворота фермы, обсаженные ореховыми деревьями, охранял Дон Кихот на вздыбленном скакуне. Мойше подбирал орехи и, подражая отцу, пытался раскусить скорлупу зубами. Да не тут-то было.
Его родители — Якоб и Лия Нойман — перебрались сюда в 1935 году из Мюнхена, где оба преподавали в школе. В Германии поднималась волна антисемитизма, и Нойманы сочли за благо убраться от нацистов подальше: арендовали ферму неподалеку от швейцарской границы в надежде переждать там тяжелые времена.
На замощенном булыжником дворе стояло полдесятка построек под соломенной крышей — дом, где они обосновались, птичник, хлев, овчарня, конюшня на четыре стойла. Двадцать гектаров земли, засеянных пшеницей и кормовыми травами, пахали тяжелым деревянным плугом. Хозяйство было небольшое, но позволяло кормиться плодами своих рук, запасать на зиму вдоволь припасов и почти ни от кого не зависеть. Если же требовалось еще что-нибудь, отряжали работника Ганса — единственного, кто знал, что они евреи, — в соседний городок Равенсбург.
Ганс, веселый малый и большой любитель посидеть за кружкой пива — его солидное брюхо было лучшим тому доказательством — жил в нескольких километрах от фермы, куда каждое утро приезжал на велосипеде. Он и Мойше обещал выучить этому, когда у того ноги будут доставать до педалей. Ганс делал черную работу, Якоб и Лия — все остальное, а потом и дети должны были взять на себя часть общей ноши. У Рахили было особое пристрастие к животным — она вообще любила все, что живет на свете, и всякая тварь земная, казалось, чувствовала это. Мойше в сторонке с опаской смотрел, как она открывает ульи, стоявшие среди вишен. Пчелы густо облепляли ее руки и лицо. Она дразнила Мойше, делая вид, что сейчас двинется к нему, и смеялась, когда он бросался наутек, отшвыривая путавшихся под ногами цыплят.
Мойше ходил за сестрой неотступно: рядом с нею он чувствовал себя под надежной защитой, а она обращалась с ним в точности так, как с телятами, за которыми присматривала. Если он озорничал, она не бранила его, не в пример маме, а просто говорила: «Мойше, не делай так больше», и ее пухлые губы морщились чуть заметной улыбкой. Мойше не мог устоять перед искушением прокатиться по скату соломенной крыши амбара, что было ему строго-настрого запрещено. Он знал: Рахиль сделает вид, что не замечает его проказ. Однажды он, впрочем, доигрался — и упал вниз, прямо на булыжник. Рахиль подняла его, привела плачущего домой, промыла ссадины, перевязала разбитую руку и пообещала, что маме не скажет. В тот день она показалась ему ангелом с картинки в книжке.
Мать — невысокая, плотная, с уложенными вокруг головы косами, отчего широкое лицо казалось еще шире — была неизменно ровна и спокойна, животными не занималась, предпочитая цветы в саду. Когда она подрезала кусты своих любимых белых роз, в глазах, за стеклами очков, появлялось отстраненное выражение. Она никогда и ни на что не жаловалась, хоть и тосковала по Мюнхену, — ей не хватало шума большого города, его музеев, театров и оперы. Здесь, в захолустье, приходилось довольствоваться книгами и пластинками.
Годы шли, тихая жизнь на ферме разительно отличалась от творящегося в мире безумия. Мойше было семь лет, когда он впервые стал догадываться о том, какие события происходят за высоким деревянным забором их фермы. Отец с матерью часто слушали радио, которое почти всегда сердитыми голосами рассказывало о чем-то непонятном. «Если мировому еврейству, контролирующему банки, удастся навязать человечеству новую войну, результатом этого будет полное уничтожение евреев во всей Европе…» — кричал приемник, но Мойше ни разу не удавалось дослушать до конца — когда бы он ни входил в комнату, мать неизменно выключала радио.
Однажды он помогал Рахили отнести на кухню бидон с молоком и вдруг услышал, как спорят родители:
— Ах, Якоб, твой доктор Гольдман — просто паникер: собрался бежать в Америку, потому что его лишили права практиковать. Почему он не обратится в суд?
— Лия…
— Это же цивилизованная страна, — продолжала, не давая перебить себя, мать, — здесь живут порядочные, добрые, честные, трудолюбивые люди, уважающие законы… Взять хоть нашего Ганса.
— Пойми, у власти сейчас совсем другие люди…
— Какая-то кучка хулиганов не сможет перевернуть то, что складывалось веками. Мы здесь родились. Мы — граждане Германии.
— Ты, кажется, забыла — нас уже несколько лет назад лишили гражданства. Безумие торжествует. И я думаю, Гольдманы рассудили верно.
— Чепуха, Якоб! Я отказываюсь в это верить. Убеждена, что скоро все это кончится, и мы вернемся в Мюнхен.
— Мы едем домой, в Мюнхен? — шепнул Мойше сестре.
— Еще не сейчас.
— Расскажи мне про Мюнхен — какой он?
Поставив бидоны на скамейку в кухне, они вышли во двор.
— Я сама не очень хорошо помню. Он — красивый, а мы жили в таком чудном маленьком домике… и во дворе росли красные цветы.
— А коровы и лошади где же были?
— Глупый, у нас ведь не было ни коров, ни лошадей, пока мы не переехали сюда. Мюнхен — город, а не ферма. Мама с папой там учили детей в большой школе.
— Мне бы тоже хотелось ходить в настоящую школу — там, наверно, задают поменьше, чем мама нам здесь.
— Не хнычь, Мойше, надо учиться.
Но все свои вопросы Мойше немедленно забыл, когда, лежа рядом с Рахилью, слушал свою любимую сказку про Снежную королеву. Рахиль как раз дошла до того места, где злобный тролль радуется своей коварной выдумке: «…и тогда он решил с помощью этого зеркала подразнить самого Господа, — читала Рахиль. — Но когда он взлетел под самые небеса, зеркало выскользнуло из его пальцев и разбилось вдребезги, на миллиарды крошечных осколков…»
Голос ее звучал проникновенно и мягко, доносившаяся из соседней комнаты моцартовская мелодия не заглушала, а как бы вторила ему: «…и если такой осколок попадет в глаз, будешь все видеть уродливым и искаженным. А если в сердце — станешь жестоким и злым, сердце же превратится в кусок льда».
— Рахиль, — неожиданно перебил ее Мойше, — что это у тебя на груди такое? Какие-то шишечки.
Рахиль не отрывала глаз от книги.
— Можно мне потрогать, а? Можно?
Рахиль захлопнула Андерсена.
— Не хочешь слушать дальше — так и скажи.
Мойше испуганно притих. Рахиль снова открыла книгу и поправила сползавшую с плеч ночную сорочку.

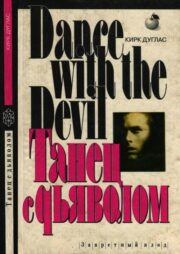
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.