Папа озабоченно поглядывал на меня, курсируя туда и обратно между гостиной и кухней, где таскал еду, которой ему не полагалось, потому что он сидел на новой диете. Не знаю, пытался ли он выкурить меня на улицу или проверял, заметила ли я, как он заныкивает печенье. Во всяком случае, он уже трижды спрашивал меня, что стряслось, а я столько же раз пожимала плечами и отвечала, что ничего. Это был тот случай, когда рассказом положение не улучшишь. Он время от времени косился на меня, заметив, что я подскочила, когда звякнул колокольчик. (Просто мама забыла как следует закрыть дверь.) Пару раз он попытался скорчить рожу, чтобы заставить меня улыбнуться, при этом запихивал в рот горсть печенья и делал вид, будто пытается развеселить меня, а не свой желудок. Чтоб его успокоить, я улыбнулась, он вроде обрадовался и вернулся в гостиную к телевизору, спрятав в рукаве кекс.
Дело в том, что я ждала звонка в дверь Дженни-Мэй.
Она вызвала меня сразиться в «королеву». Это такая игра, в которую мы играли на дороге, используя теннисный мячик. Каждый участник становился в квадрат, начерченный мелом на асфальте, и нужно было так стукнуть мячиком об землю в своем квадрате, чтобы оттуда он отскочил в чей-нибудь другой. Тот, к кому попал мячик, тоже стукал по нему, пересылая дальше. Если он промахивался или посылал мяч за линию, то выбывал из игры. Задача заключалась в том, чтобы постараться выбить игрока из верхнего, «королевского» квадрата. Именно в нем Дженни-Мэй и стояла каждую игру. Все привыкли повторять, как прекрасно она играет, какая она удивительная, и великолепная, и талантливая, и как быстро и точно она бьет, и как классно у нее это и как классно то, в общем, блевать хотелось от всех этих восторгов. Мы с моим другом Эмером обычно наблюдали за игрой с нашей стенки. Нас никогда не принимали – Дженни-Мэй не желала. И вот однажды я сказала Эмеру, что Дженни-Мэй все время выигрывает потому, что она всегда начинает игру с верхнего квадрата. А это значит, что ей не нужно проходить весь путь, как остальным.
Ну и вот, кто-то как-то про это прослышал, мои слова дошли до Дженни-Мэй, и на следующий день, когда мы с Эмером сидели на нашей стенке, постукивая по кирпичам каблуками и сбрасывая щелчком божьих коровок, чтобы посмотреть, как далеко они улетят, Дженни-Мэй, уперев руки в бока, подошла к нам в окружении своей свиты и потребовала объяснений. Ну, я все ей и выложила. Багровая от злости и возмущенная тем, что ей посмели перечить, она вызвала меня на игру в «королеву». Как я уже говорила, мне ни разу не приходилось играть, и, как и все, я знала, что Дженни-Мэй – хороший игрок. Я лишь хотела сказать, что она играет не настолько хорошо, как все утверждают. Было в Дженни-Мэй нечто такое, что заставляло людей видеть в ней больше того, чем она обладала на самом деле. Позднее в жизни мне приходилось встречаться с несколькими такими женщинами и мужчинами, и, глядя на них, я всегда вспоминала ее.
Однако умной она была, спору нет. Все сделала так, чтобы каждый знал: если я не приду, она автоматически станет чемпионкой. Тут мне пришлось нежданно-негаданно пожалеть, что поездка в гости к тете Лили не состоится на день раньше. А ведь до этого момента она наводила на меня ужас.
Вскоре все на нашей улице уже знали, что Дженни-Мэй вызвала меня на игру. И все собрались прийти и усесться на бордюре, чтобы понаблюдать, даже Колин Фицпатрик, который вообще-то считался слишком крутым, чтобы ходить на нашу улицу. Обычно он катался на скейте с парнями, живущими за углом и больше никого не принимавшими в свою компанию. Говорили, что даже все скейтбордисты явятся посмотреть на нас.
Накануне я практически не сомкнула глаз. Посреди ночи встала, надела кроссовки и в пижаме вышла на улицу, чтобы потренироваться у садовой стенки. Толку от этого оказалось мало, потому что она была неровной и мячик отскакивал в самых немыслимых направлениях. Плюс тьма на улице, из-за чего я с трудом его различала. В конце концов миссис Смит из соседнего дома открыла окно спальни и высунула голову, утыканную бигуди, – по моему мнению, она зря возилась с ними каждый вечер, потому что на следующий день волосы все равно оставались прямыми, как палки, – и сонно попросила меня прекратить. Я вернулась в постель, но долго лежала без сна, а когда наконец-то заснула, мне приснилась Дженни-Мэй: ее несли на руках, и на голове у нее сверкала корона, а Стивен Спенсер подъехал на скейтборде и ногтем, накрашенным лаком, тыкал в меня, смеясь при этом. К тому же я была голой.
Именно мое соревнование с Дженни-Мэй навело ее родителей на мысль, что она пропала. Летом нам давали полную свободу. Всей компанией мы целый день играли на улице, изредка забегали домой и иногда ходили друг к другу в гости обедать. Поэтому я бы не винила ее родителей за то, что они не замечали ее отсутствия в течение всего дня. И никто их не осуждал, потому что все всё понимали, в этом я уверена. Все взрослые в глубине души признавали, что такое могло и с ними случиться, то есть и их ребенок мог исчезнуть, и никто бы не обратил внимания, что последние несколько часов его не видно.
Дом Дженни-Мэй и мой стояли точно один напротив другого. Мама и бабушка с дедушкой в конце концов ушли из садика, когда солнце спряталось за домом Батлеров. Я знала, что все уже расселись на бордюре в ожидании, когда я и Дженни-Мэй выйдем из дому и встретимся в середине улицы. Я заметила, что папа посмотрел в фасадное окно, а потом на меня. Решила, что он догадался, в чем дело, и потому улыбнулся мне. Потом он сел рядом со мной, положил на стол печенье и принялся методично, одно за другим, отправлять его в рот.
Естественно, как только пробило семь, собравшиеся на улице начали скандировать наши имена. Несколько голосов позвали меня, но быстро утонули в хоре, распевающем имя Дженни-Мэй. Может, раздавалось и мое имя, но я не различала ничего, кроме слов «Дженни! Мэй!». И так всю жизнь: ее имя звучало в моих ушах громче, чем мое собственное. Неожиданно крики стали оглушительными и радостными, и я решила, что Дженни-Мэй вышла из дома. Однако тут же все смолкло, до меня долетели обрывки разговора, затем наступила полная тишина. Папа взглянул на меня и пожал плечами. Раздался звонок в дверь. На этот раз я не вскочила, чувствуя, что тут что-то не так. Папа похлопал меня по руке. Я услышала, как мама открыла дверь и поздоровалась своим обычным дружелюбным и жизнерадостным голоском. Потом зазвучал голос миссис Батлер, вовсе не такой дружелюбный и веселый. Папа тоже обратил на это внимание и вышел из кухни, чтобы присоединиться к ним в прихожей. Голоса стали совсем озабоченными.
Не знаю почему, но я была не в состоянии подняться из-за стола. Просто сидела и размышляла, как мне выпутаться из истории с вызовом, но при этом испытывала странное чувство, что оправдания не понадобятся. Атмосфера изменилась, причем к худшему, и я это ощущала, но одновременно пришло и чувство облегчения, как это бывает, когда приходишь в школу, узнаешь, что учитель заболел, и его здоровье ни капельки тебя не беспокоит. Через несколько минут дверь на кухню распахнулась, и вошли мама, папа и миссис Батлер.
– Милая, – ласково спросила мама, – ты, случайно, не знаешь, где Дженни-Мэй?
Я нахмурилась, потому что вопрос смутил меня, хотя и был абсолютно понятным. Внимательно изучила их лица. На папином написана озабоченность, мама ободряюще кивает мне, а миссис Батлер выглядит так, будто собирается заплакать. И словно вся ее жизнь зависит от моего ответа. Полагаю, что в определенном смысле так оно и было.
Я замялась, и тогда миссис Батлер быстро заговорила:
– Дети на улице не видели ее весь день. И я подумала, что она, может быть, у тебя.
Я понимала, что это нехорошо, но не сумела сдержать улыбку при мысли, что Дженни-Мэй могла провести день со мной. Я покачала головой. Миссис Батлер обошла всех соседей, чтобы узнать, не видели ли они ее дочь. И по мере того, как она стучалась во все новые и новые двери, я замечала, что ее лицо меняет выражение: смущение сменилось твердой решимостью, а ей на смену пришел страх.
Мне были знакомы лица матерей, когда в торговых центрах они оборачиваются и замечают, что ребенка рядом нет. Я очень внимательно изучала их, они меня завораживали, ведь мне никогда не доводилось поймать такое выражение на мамином лице. Не потому, конечно, что она не любила меня, просто я с детства была очень высокой и благодаря этому всегда оставалась на виду. Иногда я пыталась потеряться – просто чтобы потом заглянуть в ее лицо. Закрывала глаза, поворачивалась вокруг своей оси и наугад выбирала направление. В другие разы специально дожидалась, пока она завернет за угол очередного ряда в супермаркете. Замирала возле замороженных блюд и считала до двадцати – для уверенности, что она уже достаточно далеко. Потом делала несколько шагов, и что же? Натыкалась на маму, которая стояла и изучала количество калорий на пакетах с продуктами – она даже не заметила моего отсутствия. А если вдруг она теряла из виду мою шаркающую долговязую фигуру, ей не требовалось и пяти секунд, чтобы снова отыскать меня. Достаточно было поднять глаза, и тут же появлялась моя голова, возвышающаяся над кронштейнами с одеждой, или, наоборот, опустить их, чтобы узреть мои огромные косолапые ступни, торчащие из-под продуктового прилавка.
Наблюдая за другими мамами, я замечала, как первый случайный взгляд через плечо сменяется паникой, как их голова, глаза, руки и ноги приходят в движение, которое все убыстряется и убыстряется, как они сразу бросают тележки с продуктами, чтобы броситься на поиски того единственного, что действительно питает их душу. Страх, паника, ужас – мощный импульс. Говорят, матери хватает силы, чтобы поднять автомобиль, если это нужно для спасения ее ребенка. Думаю, в ту неделю миссис Батлер подняла бы и автобус, если бы это помогло отыскать Дженни-Мэй. Когда же пошел второй месяц после ее исчезновения, миссис Батлер, похоже, с трудом поднимала от земли собственный взгляд. Дженни-Мэй унесла с собой большую часть своей матери.

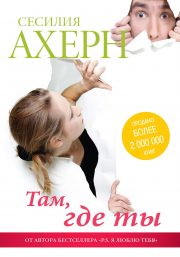
"Там, где ты" отзывы
Отзывы читателей о книге "Там, где ты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Там, где ты" друзьям в соцсетях.