Линн заплакала.
— Это ничего, все в порядке, — сказала она Талли, когда та протянула ей бумажный носовой платок и подала руку.
Через несколько секунд Линн заговорила снова.
— Но даже больше, чем о тебе, я думала о моей Дженнифер. «Вот что творится внутри Талли, — думала я. — Но что же внутри моего собственного ребенка?» Ты знаешь, что Дженнифер не говорила ни в два года, ни в три… — И Линн задрожала. — Теперь я знаю, что было у нее внутри.
— У Дженнифер была ваша любовь, — сказала Талли.
— Много же хорошего она ей дала, — мрачно отозвалась Линн.
Талли склонила голову.
— Лучше все-таки, чтобы она была. Есть хотя бы выбор.
— В сентябре ей исполнилось бы тридцать, — заметила Линн.
Талли слышала, как Бумеранг бормочет что-то себе под нос, выкапывая из клумбы цветок.
— Да пребудет ее душа в мире, — сказала Талли.
Они немного помолчали.
— Я сожалею о твоей матери, Талли, — сказала Линн.
Талли только кивнула. «Я тоже», — подумала она.
Талли с Бумерангом заехали за Дженни к Джеку, поболтали с ним немного и вернулись на Техас-стрит. Во время поминок, после приготовленных Милли креветок в кокотнице и перед поданным все той же Милли стаканом розовой воды, Талли вдруг пронзило острое чувство одиночества.
Талли вышла из-за стола и подошла к сыну.
— Буми, что ты скажешь, если мы ненадолго сбежим отсюда? — шепнула она ему.
Бумеранг с удовольствием подхватил ее заговорщицкий тон.
— А куда? — тоже шепотом спросил он.
— На озеро Вакеро.
Он задумался.
— Мам, — продолжал он шептать, — это неплохая идея, но на мне мой самый хороший костюм, а ты — в самом красивом платье.
— Это не самое красивое мое платье. Это мое самое грустное платье. Мы снимем одежду и будем плавать в трусиках. Что ты на это скажешь?
— Я скажу, — ответил Бумеранг, — почему бы нам тогда не поехать в «Бергер Кинг»? Вот тогда это был бы классный денек.
Но все-таки, хоть и без особой охоты, он согласился.
Они припарковались на Ладжито Драйв, и Талли отыскала их с Джеком место.
Небольшую лужайку с трех сторон окружали деревья, а с четвертой был обрывистый берег, откуда они с Джеком с веселыми воплями плюхались в воду, распугивая окрестных уток. Талли разделась, оставшись в лифчике и трусиках; Бумеранг нехотя и что-то бормоча себе под нос разделся тоже. Но стоило им, потным, разомлевшим от жары, прыгнуть в прохладную воду, как Бумеранг совершенно забыл о своем недовольстве и плавал, плескался в воде еще долго после того, как Талли вылезла на берег.
Сидя на траве, Талли смотрела на Бумеранга и думала: «Я не могу оставить его. Я не могу оставить его. Я не могу оставить его».
Она ударила себя в грудь. Сильно ударила. Но чувство одиночества не хотело выходить.
«Я не могу оставить его. Я не могу оставить его. Я не могу оставить его».
Она сидела, раскачиваясь взад-вперед, и повторяла это неврастеническим речитативом, не давая себе думать: «Я не могу оставить его. Я не могу оставить его. Я не могу оставить его».
Словно бы оттого, что их повторят много-много раз, слова лишатся смысла, и тогда Талли сумеет пожертвовать сыном.
— Это была классная идея! — закричал Бумеранг из воды.
«Я же говорила!» — хотела крикнуть она, но голос не послушался ее.
глава девятнадцатая
МУЖ И ЖЕНА
Июль 1990 года
Талли спустилась вниз — Робин сидел в темноте.
— Пойдем спать, — сказала Талли. — Что ты сидишь тут впотьмах?
Она слышала, как он глубоко вздохнул.
— Итак, Талли. Какие у тебя планы?
— Планы? Собираюсь лечь спать. Я устала.
— Какие у тебя планы на завтра? — настаивал Робин. — И на понедельник? И на понедельник будущего года?
— Робин, я только что похоронила мать. Дай мне передышку. Я не знаю, что я собираюсь делать. Добросовестно работать, быть неплохим человеком, уважать старших. А теперь пойдем. Я устала.
— Талли, я хочу знать, что происходит. Я хочу знать, когда ты планируешь уехать.
«Как только ты отдашь мне моего сына!» — хотелось закричать ей.
— Планирую? — как бы не понимая, переспросила она. — Я собиралась лечь спать.
— Ты не хочешь честно отвечать на вопрос. Что тебя удерживает?
«Да, конечно. Я не хочу честно отвечать на вопрос, — подумала Талли. — Что меня удерживает? То, что меня удерживает, спит сейчас на втором этаже».
— Твоя мать была большим препятствием для тебя, верно? — продолжал Робин.
«Не таким уж большим. По сравнению с другими препятствиями она была всего лишь консервной банкой на дороге», — думала Талли.
Робин сидел в кресле спиной к ней, он курил сигарету и почесывал себе грудь. В полумраке она видела его темную фигуру — черное и синее — голая грудь, шорты, очертание повернутого прочь лица. Опустив голову, она пошла на второй этаж. Ей нужно было сделать то, что она никак не решалась заговорить о Бумеранге. С самого февраля она уже столько раз заводила этот разговор, что теперь была просто не в силах вновь подвергнуть и себя, и Робина этой пытке.
«Я вхожу на цыпочках в его комнату. Я вхожу на цыпочках, закрываю за собой дверь — она скрипит, но это ничего — это тише, чем шум телевизора или плач Дженни. Я подхожу к нему, и, как всегда, он раскрыт — ему жарко. Сейчас в Канзасе лето, и в этом году оно особенно жаркое, но работают кондиционеры, и в комнате почти прохладно. Поэтому я укрываю его. Я дотрагиваюсь до него — он потный, но я не могу не укрыть его. Это как кормление грудью. Инстинкт. Я должна его укрыть, хотя бы простыней. Но перед тем, как сделать это, я совсем убираю покрывало и смотрю на него, спящего. Он лежит на спине, раскинувшись. У него был сегодня длинный день. Он хоронил свою бабушку, потом мы поехали купаться. Он храбрый мальчик, совсем не плакал. Я дотрагиваюсь до его ног — они гладкие и нежные. На них уже начинают появляться волосики. Ему только восемь лет. Теплые ступни. Влажные спутанные волосы, приоткрытый рот. Я наклоняюсь над ним и вдыхаю аромат его дыхания. Сонное дыхание ребенка. Такое же неотделимое от меня, как мое собственное. Я вдыхала его дыхание с самого его рождения. Теперь я прошу его по утрам: «Бумеранг, подыши на меня». И он говорит: «Ну, мам», — но выполняет мою просьбу. До сих пор. Иногда, когда он считает, что я сержусь на него, он подходит и говорит: «Мам, хочешь, я подышу на тебя?» Как будто если я скажу нет, значит, я действительно на него сердита. Как будто я могу сказать «нет». Я говорю: «Подойди ко мне и подыши на меня». И сейчас я наклоняюсь над ним, чувствую запах его дыхания, и мои слезы капают ему на лицо. Я осторожно вытираю их и потихоньку отодвигаю его, чтобы лечь рядом, и утыкаюсь лицом в его волосы. Они пахнут, как счастье. Без сомнения — Бумеранг останется с Робином. Милый Бумеранг. Что ты станешь делать без своей мамочки? Весь день играть в регби, питаясь попкорном и гамбургерами? Тебе это понравится, не так ли? «Папа, — скажешь ты, — я не хочу сегодня мыться в ванне». — «Хорошо», — скажет папа. «Папа, я не хочу ложиться спать». — «Хорошо», — скажет папа. «Папа, — скажешь ты, — я хочу еще шоколада, сигарету, презерватив». Мой сын, что я буду без тебя делать? Мысль, что тебя придется оставить, парализует меня, я становлюсь паралитиком, как бабушка. Вот уже двести дней моя жизнь похожа на какой-то сон: я куда-то ухожу, что-то говорю, плачу и, как лунатик, не понимаю, что делаю. Уйти без тебя немыслимо. Но что будет делать без тебя твой отец? С кем он будет возиться посреди гостиной? С кем он будет пачкаться с головы до ног на этом жутком футбольном поле? Забрать тебя от отца тоже немыслимо. И все-таки… Если бы я могла выбирать… я бы не оставила тебя для твоего отца, Бумеранг. «Я оставил тебя для твоей матери», — вот что он мне сказал, представляешь? Словно я была всего лишь редкой книгой. Словно он открыл книгу, увидел, что на первой странице надписано имя моей матери, и подумал: «Ладно, эту я оставлю ей». А в Хэнке он, верно, увидел свое имя. Как бы там ни было, мое имя в тебе есть. Мое и твоего отца. Поэтому весь день с раннего утра и до того, как забыться беспокойным сном, от утреннего душа и до твоего вечернего купания я как заторможенная, и в голове у меня только одна ясная мысль: «Я не могу оставить тебя! Я не могу оставить тебя! Я не могу оставить тебя!»
Скрипнула дверь. Робин вошел и сел в кресло-качалку.
— Иди в постель, Талли, — шепотом сказал он.
— Я… в постели… Робин, — спазмы в горле не давали Талли говорить.
Талли чувствовала на себе взгляд Робина.
— Пойдем, Талли.
Через пять минут Талли встала. Она вышла из комнаты Бумеранга и осторожно закрыла за собой дверь. Но она никак не могла успокоиться. Она вошла в комнату Дженни, подоткнула одеяло, убавила мощность кондиционера, потом спустилась на первый этаж, зашла в гостиную, потом на кухню, потом в «Калифорнию», прошла через весь дом, заглянула в большие комнаты матери — они сохраняли еще ее запах, — затем снова в гостиную, в кухню, в невыносимо жаркую «Калифорнию»; она все ходила и ходила, обхватив себя руками, раскачиваясь взад-вперед.
«Может быть, я страдаю кататонией[29] — подумала она, — но хоть не страдаю оцепенением».
— Талли, что ты делаешь? — спросил Робин, когда она в очередной раз проходила через гостиную.
— Ничего, — ответила она. — Ложись спать.
— Что случилось, Талли? Что с тобой?
— Я тоскую по матери, — быстро ответила она, избегая его испытующего взгляда.
— Правда?
— Нет, — сказала она, — я имела в виду, что я хотела бы, чтобы она была здесь. Нет, не то. Я хотела сказать, тяжело не иметь матери. Нет, опять не то.

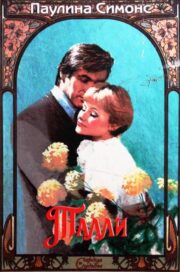
"Талли" отзывы
Отзывы читателей о книге "Талли". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Талли" друзьям в соцсетях.