Бен набрал еще раз: проверить, что он не ошибся. Он прилег. Таким образом он был абсолютно и окончательно от нее отрезан. Последний удар. Ему не надо было много: просто набрать номер и представить, что Шарон в соседней комнате. Теперь он лишен даже этого.
Спроси его кто-нибудь, что за последние пять лет было для него важнее всего в жизни – и он ответит, не задумываясь. Ничего – ни карьера, ни репутация, ни друзья – хотя он упорно не хотел признать этого, ни даже его семейная жизнь – ничто не могло сравниться с его привязанностью к Блисс. Если, не дай бог, что-нибудь случилось бы с дочкой, он "вряд ли перенес бы потерю.
Почему общение с ней ему так приятно, было до сих пор загадкой для него. Они с Шарон, когда поженились, были слишком поглощены своей карьерой и устройством жизни. Когда Шарон предложила завести ребенка, ему было в принципе все равно.
– Я много езжу, – сказал он ей.
– Я понимаю. И я не хочу, чтобы ты работал меньше. Ты будешь одним из тех отцов, что приезжают только на выходные и снимают, как говорится, сливки, пока матери вытирают носы и воспитывают.
Шарон ждала ребенка, но что-то изменилось в их отношениях, точнее изменились его чувства к Шарон. Во время ее беременности, каждый раз, возвращаясь из поездки, он замечал, что тело ее опять стало другим. Ее эмоции ослабли, она погрузнела, а он чувствовал себя виноватым, что находится где-то далеко в трудную минуту. Она часто рассказывала, как малыш бьет ножками в животе. Она не просто так рассказывала ему об этом. Она хотела больше внимания от мужа, и ребенок был своего рода сделкой. Шарон искренне радовалась, когда он стал работать в университете, что ближе к дому. Это было перед самым рождением Блисс.
Как бы там ни было, но получилось совсем не так, как предполагала Шарон. Последствия сделки оказались совершенно иными. Благодаря расписанию в университете, Бен проводил дома гораздо больше времени, чем Шарон. (Да, на суде все это было вычислено и подсчитано, чтобы доказать суду, что он намеренно устроил такое расписание работы, чтобы быть больше времени наедине с дочерью). Шарон много работала в частной школе, где она преподавала, и, казалось, была довольна возможностью Бена присматривать за Блисс (потом она будет винить себя за это: «Разве я тебя на это толкнула, Бен? Может у тебя и раньше были такие нездоровые наклонности. Бывай я чаще дома, ты не пошел бы на поводу у своего инстинкта». Именно Бен брал на себя все заботы, когда Блисс была больна. Он готовил ей есть, кормил и купал ее. («Действительно, – отмечал впоследствии адвокат, – вашей жены большую часть суток не было дома, и вы все время проводили в обществе своей маленькой дочки. В сущности, она заняла место вашей жены, не так ли?»)
Он был неважный воспитатель. Что бы Блисс ни делала, казалось ему верхом совершенства. Даже наказывая ее, он не мог скрыть улыбки. А Шарон знала об этом, и ее это приводило в ярость.
– Если ты будешь позволять ей все что угодно, она и в 15 лет будет носиться как сумасшедшая, и мы не будем иметь на нее никакого влияния, – говорила Шарон.
Однако Бен не видел смысла наказывать ребенка за малейшую провинность. Из его опыта можно целую диссертацию написать. Рядом с Беном Блисс имела полную свободу и не подчинялась никакой дисциплине. На Шарон она часто срывала зло, за что получала шлепки, вися на мамином колене. Шарон практиковала воспитание такого рода, Бен же считал его недопустимым. Вся эта информация была вытянута из него и Шарон во время суда. Он обращался с Блисс скорее как со взрослой, а не с ребенком. Что касается Бена, он старался защитить Шарон на суде, в то время как сами судьи пытались разжечь войну между ними. Но все было не так. Он не сердился на нее, жаль только, что она не захотела ему поверить. Бен защищал ее от нападок своего собственного адвоката, который пытался представить Шарон как безразличную, жестокую и вечно отсутствующую дома мать. Шарон тоже не сказала ничего предосудительного в его адрес. Но в зале суда их слова звучали по другому, показания были настолько вывернуты и искажены, что они стали друг для друга злейшими врагами. И семейная жизнь была разбита, разгромлена, словно на поле боя, после чего она уже никак не могла начаться сначала.
Бен опять крутил диск телефона. Этот номер стал его спасительной ниточкой за последние 6 месяцев. На другом конце провода ответил брат.
– Я тебя не разбудил? – спросил Бен.
– Нет, а что случилось? – удивился Сэм столь раннему звонку.
– Шарон изменила номер телефона?
– Да. Джефф настоял на этом. А ты все названиваешь?
– Иногда. Не так уж часто, а он, бедняга, так разволновался.
– Он не находит себе места всегда, когда речь заходит о тебе. Самовлюбленный осел.
– Знаю, это все только слова, чтобы успокоить меня. Но моя дочь живет там, в его доме. И хочется верить, что в нем хоть что-то человеческое еще осталось.
Сэм засмеялся:
– Что-то может и осталось. Я передам ему твои слова.
– Слушай, у меня тут кое-что для тебя есть, но обещай молчать. Кстати, Джен там поблизости?
– Нет, она в саду.
– Отлично! Я встречаюсь, если можно так выразиться, с Иден Райли.
– Что? Ты соображаешь, что говоришь? Она у Кайла? Она знает о…?
Бен улыбнулся.
– Не тарахти. Она гостит у Кайла, собирается быть там все лето; хочет снять фильм о своей матери и собирает кое-какую информацию. Я виделся с ней несколько раз.
– Что значит «виделся»?
– Ездил на прогулки. Говорил. Целовался.
– Черт, Бен! Ну ты даешь, старина! Иден Райли! Подумать только! А как же ее приятель, как бишь его там, тот парень, что сгорает с ней в последней картине?
– Не думаю, что она особо им увлечена. Что до меня, то все это конечно, кратковременный романчик, так, на летнее время.
Ему нельзя было забывать об этом.
– Она знает о Блисс?
– Она в курсе, что у меня проблемы, но что конкретно, не знает. Да по-моему, ее это не очень-то интересует.
– Эта женщина создана для тебя, Бен, кстати, она такая же конфетка в жизни, как на экране?
– Я бы вообще не назвал ее «конфеткой».
Он вспомнил страстные прикосновения ее бедер вчера вечером и сразу же увидел реакцию под простынью. Он рассмеялся.
– Она на меня и сейчас влияет, представляешь?
– Ого-го-го! Вот это да, паря, продолжай в том же духе; но не сходи с ума, контролируй себя, хоть мне и не хочется расставаться с тобой на такой ноте. Постарайся, если не ради себя, то ради меня. Я не могу больше улаживать те заварушки, в которые ты попадаешь. Ну, бывай!.
– Сэм! Никому ни слова. Даже Джен!
После разговора с Сэмом Бен почувствовал себя гораздо уверенней. Настолько, что позвонил Иден спросить, не изменились ли ее планы на сегодня. Он предложил поехать в Белхерст за кукольной мебелью на день рождения Ким Пэрриш. Она согласилась, и он даже не удивился ее внезапному решению. Она, оказывается, уже давно встала и начала работу над сценарием. Но Кайл принес ей еще одну тетрадь матери, и она хотела бы немного почитать. Его устроит одиннадцать часов?
– Одиннадцать? Отлично.
Он выбрался из постели, надел шорты, спортивные ботинки, а потом вышел из квартиры, чтобы пробежаться под утренним дождем.
ГЛАВА 20
7 марта 1945 г.
На прошлой неделе у матери Мэтта развилась пневмония, и в четверг она умерла. Мэтт винит себя в ее смерти, считает, что должен был отправить ее в больницу раньше, но врач уверил его, что это вряд ли что-нибудь изменило бы.
Он попросил меня прийти и помочь ему разобраться в квартире. Работы никакой особой не было, ему просто было тяжело одному приводить в порядок вещи матери, просматривать и перебирать их, каждая причиняла ему невыносимые страдания, напоминая о ней.
Во время болезни мать Мэтта читала журналы, проводя в постели долгие часы. Я присела на диван и взяла в руки номер «Лайф», но читать не смогла: было как-то не по себе находиться в доме, где совсем недавно умер человек.
Мэтт наводил порядок в ее комнате, я же вообще не могла переступить ее порога.
Через некоторое время Мэтт вышел в гостиную и сел рядом со мной на диван. Я поняла, что он плакал. Он вообще часто плачет, как говорят, глаза на мокром месте.
– Я хочу, чтобы отныне эта вещь принадлежала тебе, – сказал он, втискивая в мою ладонь овальный медальон с перламутровым цветком в центре. Ничего красивей я не видела. – Мать часто его носила, и он всегда напоминал мне о тебе, ты ведь тоже одиноко цветешь на поляне, как вот этот цветок.
Потом он надел медальон мне на шею, его лицо было совсем рядом с моим, настолько, что я ощутила прикосновение его давно не бритой щеки. Неожиданно он притянул меня ближе к себе и хотел поцеловать, но я увернулась.
– Но почему, Кэт? – спросил он.
– Не делай этого, никогда не делай, – я понимала, что мой поступок требует объяснения, а оно было простым: я не любила его. Я ему в этом призналась, он, бесспорно, был по-своему привлекателен, но я не была влюблена. Нет, это не жеманство. Вовсе не обязательно быть мужем и женой, чтобы заниматься любовью, но по крайней мере хоть какое-то чувство должно быть.
Все это я сказала Мэтту, он смутился:
– Я лишь хотел поцеловать тебя.
– Да, но если мы целуемся, можно подумать, что мы любим друг друга.
Он выглядел расстроенно и мне было не по себе. Мы с Мэттом прекрасно понимали, что были не более, чем друзьями, да, думаю, никто из нас не ждал чего-то еще.
– Я провожу тебя, – сказал он.
– Это не обязательно, я доберусь сама. Что-то вдруг коренным образом изменилось в наших отношениях. Если раньше мы могли поделиться всеми сокровенными секретами, то теперь мы не могли даже спокойно смотреть друг другу в глаза. Я собралась встать, но он обнял меня сзади за талию и спрятал лицо в моих волосах:
– Кэт, пожалуйста, не оставляй меня здесь одного. Скоро я все равно ушла, точнее пулей вылетела из этого дома и бежала до самой пещеры, вся в слезах, а потом долго еще не могла отдышаться и прийти в себя.

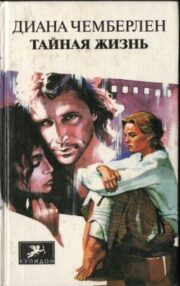
"Тайная жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайная жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайная жизнь" друзьям в соцсетях.